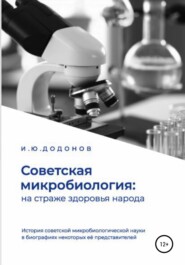 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Будучи санитарным инспектором при МВД, Гамалея доказывал властям необходимость организации и ведения широкой повседневной санитарной работы в городах и деревнях. Но, как горько сетовал сам учёный, ему пришлось неоднократно убедиться в «полной непригодности… бюрократического строя» [40; 3].
Тем не менее, стараясь изменить ситуацию, Николай Фёдорович включается в работу Межведомственной комиссии по пересмотру врачебно-санитарного законодательства (т.н. комиссии Г.Е. Рейна). Комиссия выдвинула план создания Главного управления общественного здравоохранения – своего рода прообраза Министерства здравоохранения. Такого министерства в Российской империи не существовало, дело ограничивалось Медицинским Советом МВД, в котором и работал Гамалея. Однако, увы, предложения и планы комиссии осуществлены не были.
Но Николай Фёдорович, уже давно, в общем-то, привыкший к наплевательскому отношению царской бюрократии к проблемам народного здравоохранения, несколько лет пытается сочетать имеющиеся у него в силу занимаемой должности административные возможности с активной самостоятельной деятельностью в указанной сфере. Другими словами, он пытается привлечь и организовать медиков и учёных для ликвидации тех вопиющих недостатков в области санитарии и социальной гигиены, до которых у властей «не доходят руки».
Среди врачей и учёных в те времена было много людей с активной гражданской позицией, полагавших, что они служат, прежде всего, людям. Поэтому призыв Гамалеи нашёл горячий отклик. Группа врачей-энтузиастов во главе с Гамалеей создаёт организацию «Совещание ночлежных врачей».
Ночлежные дома, «ночлежки», Петербурга были приютом обездоленных, голодных людей, рассадником преступности и многих инфекционных болезней (брюшного, сыпного и возвратного тифов, сифилиса, холеры и др.).
«Ночлежные врачи» по своей инициативе, на свои средства, зачастую рискуя жизнью (и речь идёт не только об опасности «подхватить» какую-либо болезнь в этой «клоаке», но и получить «перо» в бок), стали проводить санитарный надзор в ночлежных домах и вести там посильную борьбу с болезнями.
Эта поистине подвижническая деятельность государством, однако, вновь оценена не была, и никакой помощи врачи-энтузиасты не получили.
Николай Фёдорович давно считал, что «в числе важнейших мер, которые могут быть приняты к охране народного здоровья, на первом месте стоит популяризация основных начал здравоохранения» [10; 21]. Иными словами, необходимо санитарное просвещение широких масс населения.
Поскольку ни МВД, в котором работал Гамалея, ни другие ведомства денег на проведение просветительских мероприятий и публикацию соответствующей литературы (брошюр, книг) не выделяли, то в дело опять вступила инициатива «общественников». Именно в «Совещании ночлежных врачей» родилась идея начать публикацию журнала «Гигиена и санитария». Журнал создавался «вскладчину», т.е. на личные средства врачей-энтузиастов, в том числе, конечно же, и Н.Ф. Гамалеи. Николай Фёдорович стал его главным редактором.
«Гигиена и санитария» была первым русским научно-гигиеническим журналом. Как декларировалось в программной статье, главная задача издания – «оздоровление быта населения России» (имелось в виду, конечно, медицинское, санитарно-гигиеническое оздоровление) [10; 21].
Статья была написана главным редактором, т.е. Гамалеей. Николай Фёдорович подчёркивал громадность и трудность поставленной задачи, поскольку она неразрывно связана с основными социальными проблемами.
В журнале публиковали свои статьи не только члены «Совещания ночлежных врачей». Гамалее удалось привлечь к сотрудничеству в издании известных медиков и учёных – З.П. Соловьёва, Н.И. Тезякова, Н.Н. Клодницкого, И.А. Деминского и др.
Множество статей для журнала (свыше ста, не считая редакторских «передовиц») Николай Фёдорович написал сам. Они были посвящены вопросам организации здравоохранения, постановки медицинского образования, санитарно-гигиеническому положению в различных частях страны, предупреждению и пресечению заразных болезней, постановке прививочного дела, научным микробиологическим исследованиям.
«Гигиена и санитария» выходила в 1910 – 1913 годах (два раза в месяц).
На посту санитарного инспектора Медицинского Совета МВД (как сказали бы сейчас, главного санитарного врача страны) Н.Ф. Гамалее пришлось столкнуться с эпидемией сыпного тифа, обрушившейся на Россию в 1908 – 1909 годах.
«Сыпняк» не был редкостью в Российской империи (как и многие другие опасные инфекционные заболевания): локальные вспышки регистрировались чуть ли не ежегодно в различных частях страны. Но эта была особенно сильной: болезнь поразила около 300 тысяч человек. Высок был уровень смертности.
Как выяснил Гамалея, очаги эпидемии находились в переполненных сверх всякой меры тюрьмах, куда царское правительство в условиях начавшегося революционного подъёма тысячами бросало революционно настроенных рабочих.
Ещё в 70-х годах XIX века русские врачи Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский (у последнего в клинике, как мы помним, Гамалея какое-то время работал) установили, что возбудители возвратного и сыпного тифа находятся в крови больных этими инфекционными заболеваниями. Для доказательства этого положения отважные врачи прививали себе кровь больных возвратным тифом (Г.Н. Минх) и сыпным тифом (О.О. Мочутковский).
И если возбудители данных опасных инфекций были установлены, то пути их передачи ещё оставались неразрешённой проблемой. Правда, Минх высказал предположение, что разносчиками возбудителей тифов являются насекомые. Но доказанным это предположение спустя тридцать с лишним лет ещё не было.
В 1908 году Гамалея, проводя обследование тюрем, поражённых «сыпняком», обратил внимание на крайнюю завшивленность заключённых. «Связка» «вши – сыпной или возвратный тиф» встречалась ему и в петербургских «ночлежках». По-видимому, гипотеза Г.Н. Минха была вполне справедливой.
Последовали лабораторные исследования, в ходе которых было установлено, что вша является разносчиком возбудителя сыпного тифа – риккетсии. В 1909 году французский врач Шарль Николь самостоятельно опытным путём пришёл к такому же выводу, т.е. подтвердил установленный Гамалеей факт.
Стало ясно, что для борьбы с распространением эпидемии сыпного тифа необходимо не только проведение общесанитарных мероприятий (строгая изоляция больных, недопущение чрезмерного скучивания заключённых в тюрьмах и на этапах пересылки, соблюдение элементарных правил гигиены, т.е., попросту говоря, администрация тюрем должна была позволять заключённым чаще мыться), но и борьба с вшами, эффективная защита от них. А для этого вшей надо было лучше изучить, узнать, как они себя ведут, как реагируют на различные средства воздействия на них.
Давно считалось, что вши обладают обонянием и, чувствуя где-то «вредный» для себя запах, стараются покинуть это место. Основываясь именно на этом представлении, создавали различные пахучие средства против вшей: порошки для защиты от них помещений, амулеты и ладанки для защиты отдельных людей.
Гамалея, изучая вшей, установил, что они почти не чувствительны к пахучим, в том числе и ядовитым для них, веществам. В поисках пищи экспериментальные вши залезали даже в эвкалиптовое масло, где немедленно погибали, их не страшили и другие сильно пахнущие вещества, которые рекомендовались тогда против вшивости. Учёный выяснил, что вши не погибают от погружения в кипящую воду в течение одной минуты, но немедленно гибнут в сухом паре той же температуры. В воде вши плавают на поверхности и при первой возможности выбираются на сухие предметы.
Из этих установленных фактов вытекали рекомендации, разработанные Гамалеей: для борьбы с вшами применять не влажную дезинфекцию, а высушивание, «прожарку» одежды и вещей сухим паром и жаром. Николай Фёдорович также уделил особое внимание созданию специальной одежды для медицинского персонала и дезинфекторов, не воспринимающей «заразу», т.е. вшей и других насекомых.
На путях пересылки заключённых Гамалея настойчиво рекомендовал организовать контрольно-пропускные пункты, которые бы позволили своевременно определять больных людей и отделять их от здоровых.
Принятые меры дали свои результаты: в 1909 году эпидемию удалось остановить.
Таким образом, в 1908 – 1912 годах Николай Фёдорович работал как санитарный врач, эпидемиолог, просветитель (в области медицины и гигиены). Научными исследованиями он в этот период занимался мало (просто физически не хватало времени, ведь в сутках всего 24 часа). Но учёный не считал указанную практическую деятельность деятельностью второго сорта. Напротив, уже давно у него сложилось убеждение, что главная цель, к которой должен стремиться каждый микробиолог, т.е. победа над инфекционными заболеваниями, может быть достигнута только успешным сочетанием научных исследований, санитарно-эпидемиологической работы и санитарного просвещения. И почти всю свою жизнь в науке Гамалея выступал и как учёный-микробиолог, и как врач-эпидемиолог и санитарный врач, и как просветитель.
В 1912 году Николай Фёдорович возглавляет Оспопрививательный институт имени Дженнера, которым руководил до 1928 года, т.е. и после Великой Октябрьской Социалистической революции и установления Советской власти.
Оспа – одно из опаснейших инфекционных заболеваний. Современным людям трудно представить, каким страшным бедствием она была в нашей стране ещё буквально век назад.
«Оспа, – заявлял Гамалея, – одна из немногих болезней, которые подлежат совершенному упразднению при помощи исключительно санитарных мероприятий, причём последнее в данном случае сводится к вакцинации и ревакцинации» [10; 18], [16; 7].
Институт имени Дженнера, директором которого стал Гамалея, занимался производством вакцины против оспы – детрита.
В царской России оспопрививание обязательным не было. Городские управы и земства занимались им по своей инициативе. Их-то и снабжал детритом Оспопрививательный институт.
Николай Фёдорович полагал, что правительство должно сделать оспопрививание обязательным по всей стране. Пожалуй, читателя уже не удивит тот факт, что правительство учёного вновь не услышало.
Между тем, Гамалея проводит исследования с целью усовершенствовать процесс производства вакцины и сделать её более стойкой (у детрита был серьёзный недостаток – весьма малый срок хранения). Ему удалось не только существенно увеличить срок хранения препарата, но и, внеся изменения в технологию его изготовления, нарастить выпуск в 15 – 20 раз.
Всё это оказалось очень вовремя. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. Царское правительство пошло на проведение прививок в армии от ряда опасных инфекций, в частности от оспы. Тут-то и пригодился усовершенствованный Гамалеей детрит. Кстати, как мы помним, в армии начала применяться и противохолерная вакцина, разработанная Николаем Фёдоровичем более двух десятилетий назад.
На посту директора Оспопрививательного института и встретил Гамалея Октябрьскую революцию.
Надо полагать, что первым обстоятельством, которое поразило учёного после прихода к власти большевиков, было создание ими Народного комиссариата здравоохранения. Дореволюционная Россия подобного министерства не имела.
Далее, «дорвавшиеся» до власти «хамы» и «жиды», вопреки воплям «цвета русской нации», начали не громить науку, а, наоборот, стараться её развивать. Они не только не закрыли существующие научные институты, но ещё и в одном из первых своих декретов объявили о создании целого ряда новых. И «старые», и новые институты поступали на государственное финансирование.
Большевистское правительство с первых шагов продемонстрировало то, чего многие годы русские учёные не могли дождаться и добиться от царского правительства, – готовность поддерживать науку и широко сотрудничать с учёными в целях достижения общественного блага. В полной мере это касалось и здравоохранения. Поэтому-то очень многие русские микробиологи, хотя коммунистами по убеждениям они и не были (но были демократами в самом лучшем смысле этого слова), искренне пошли на сотрудничество с Советской властью (Л.А. Тарасевич, Д.К. Заболотный, П.Н. Диатропов, В.Л. Омелянский и др.). Был среди них и Николай Фёдорович Гамалея.
В августе 1918 года он получает от большевистского правительства разрешение на проведение в Петрограде и его губернии всеобщего оспопрививания. Уже 18 сентября 1918 года нарком здравоохранения Н.А. Семашко принял по докладу Гамалеи «Положение об оспопрививании». В апреле 1919 года председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал соответствующий декрет. Проводившаяся, согласно этому декрету, всеобщая вакцинация против оспы в стране (среди гражданского населения и в армии) позволила избежать вспышки эпидемии этой опасной болезни. То, что противооспенная вакцинация в масштабах такой огромной страны, как Россия, стала технически возможной – заслуга Оспопрививательного института и лично Н.Ф. Гамалеи. Разработанная им технология производства детрита позволила в достатке получить материал для прививок.
Кстати, в 1918 году Н.Ф. Гамалея встречался с В.И. Лениным. Владимир Ильич произвёл на Николая Фёдоровича большое впечатление. Учёный, которому в то время было уже без малого шестьдесят лет, даже дал обещание Ленину вступить со временем в Коммунистическую партию.
Забегая вперёд, скажем, что научным результатом трудов Николая Фёдоровича «по оспе» явилась его монументальная монография «Оспопрививание», где ещё раз очень ярко проявился его талант исследователя-микробиолога.
Уже в 1930 году Совет Народных Комиссаров СССР счёл возможным принять постановление о ликвидации оспы в СССР. И в 1943 году в предисловии к третьему изданию своей книги «Оспопрививание» Н.Ф. Гамалея с удовлетворением констатировал, что оспа у нас обречена на исчезновение, если только она не будет заноситься из соседних стран, что оспа и оспопрививание вышли из исключительной компетенции «оспенников» и стали разрабатываться наравне с другими микробиологическими вопросами. Таков был результат плодотворного сотрудничества учёных-микробиологов и Советского государства в области охраны здоровья народа, результат, о котором в царской России приходилось только мечтать.
Однако всё это было ещё впереди. А пока в стране бушевала гражданская война, страшно усугубляя разорение, принесённое уже Первой мировой. Катастрофически не хватало врачей, медикаментов, медицинских материалов. Разруха, антисанитария, недостаток продуктов питания, а то и попросту голод были благодатной почвой для возникновения эпидемий. И если вспышку оспы удалось энергичными мерами быстро ликвидировать, то эпидемии тифов (сыпного, возвратного, брюшного) захлестнули пылающую гражданской войной страну. Особенно свирепствовал «сыпняк».
На VII Съезде Советов в декабре 1919 года В.И. Ленин призвал к самой решительной борьбе с сыпным тифом. Он сказал: «И третий бич на нас ещё надвигается – вошь, сыпной тиф, который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе этого ужаса, который происходит в местах, поражённых сыпным тифом, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств, – всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: “Товарищи, всё внимание этому вопросу. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!”».
Можно представить всю серьёзность создавшегося положения, когда председатель Совета Народных Комиссаров делает подобные заявления!
На борьбу с эпидемиями тифов были мобилизованы все силы молодого Советского государства. И здесь очень пригодился опыт Н.Ф. Гамалеи, который всю гражданскую войну, по сути, возглавлял борьбу с эпидемическими вспышками опасных инфекционных заболеваний. Тот комплекс мероприятий, который Гамалея разработал в ходе борьбы со вспышкой сыпного тифа в 1908 – 1909 годах, самым активным образом приводился в жизнь Советским правительством. В 1920 году было развёрнуто свыше 250 тысяч коек для больных сыпным и возвратным тифами. На транспорте функционировала разветвлённая сеть контрольно-пропускных пунктов. Широко применялась дезинфекция и дезинсекция.
Вёл Николай Фёдорович в 1918 – 1919 годах и работу над вакциной против сыпного тифа. Но положительным результатом эта работа не увенчалась.
Однако масштабные и настойчиво проводимые общесанитарные мероприятия дали свои результаты. Уже в 1921 году количество заболеваний сыпным и возвратным тифами резко снизилось. Эпидемия прекратилась.
После гражданской войны Николай Фёдорович продолжает свою работу на посту директора Оспопрививательного института имени Дженнера (к тому времени он немного изменил своё название и стал называться Институт оспопрививания имени Дженнера). Но деятельность и научные интересы учёного не ограничиваются только стенами и профилем института (т.е. разработкой методов оспопрививания и производством противооспенной вакцины).
Он сотрудничает с правительством по вопросам организации здравоохранения. Разворачивает широкую просветительскую работу в области медицины и гигиены. Так, например, в журнале «Гигиена и здоровье рабоче-крестьянской семьи», который выходил в качестве приложения к газете «Ленинская правда», за период с 1923 по 1930 год была помещена 21 статья Н.Ф. Гамалеи на самые различные темы. Вот названия только некоторых из них: «Новое в борьбе с детской смертностью», «Профилактическая медицина», «Оспа и оспопрививание», «Что такое витамины», «О мухе», «Воспаление лёгких», «Пыль» и др. Кроме журнальных статей, тогда же им были написаны 11 брошюр. Среди них особенно большой популярностью пользовались и неоднократно переиздавались большими тиражами брошюры «Оспа», «Дифтерия», «Бешенство», «Грипп».
В эти годы Николай Фёдорович в очередной раз «вернулся» к своему «любимому микробу». Так сам Гамалея, шутя, называл туберкулёзную микобактерию (палочку Коха). «Вернулся» – значит, возобновил работу над исследованием возбудителя туберкулёза.
Здесь требуется вернуться назад в изложении.
«Подходы» к туберкулёзной микобактерии Николай Фёдорович совершал в течение всей своей жизни неоднократно, пытаясь найти способ одолеть болезнь, которую, безусловно, можно считать одним из бичей человечества, которая и по сей день, несмотря на успехи микробиологии, медицины, фармацевтики, ведёт на человека своё наступление, неизменно сметая барьеры, воздвигаемые на её пути.
Первый «подход» был сделан в 1884 году. По сути, он явился началом работы Гамалеи как микробиолога. Начав с разведения туберкулёзных микобактерий в своей домашней лаборатории по просьбе И.И. Мечникова, Николай Фёдорович в дальнейшем вместе с ним занимался их изучением. Гамалее принадлежат ценные наблюдения в области типологии туберкулёзных микробов, а также исследования свойств убитых микобактерий. Основываясь на результатах этой работы своего ученика, Мечников совместно с ним предпринял попытку создания туберкулёзной вакцины. К сожалению, добиться успеха русским микробиологам тогда не удалось.
В 1890 году, находясь во Франции, Гамалея вновь обратился к теме туберкулёза. Совместно с французским учёным Страуссом ему удалось разработать метод выращивания туберкулёзных бактерий в больших количествах. Метод был очень полезен для работы над туберкулёзной вакциной. Поэтому им заинтересовался открыватель микобактерии Роберт Кох, как раз работавший над вакциной против туберкулёза. Кох послал в Россию своего ученика японца Китадзато, чтобы тот на практике ознакомился с методикой Гамалеи. Николай Фёдорович охотно поделился опытом с коллегами. А вскоре удалось создать туберкулин – первую противотуберкулёзную вакцину (оказавшуюся, правда, несовершенной). Делая сообщение о созданной им вакцине, немецкий микробиолог описал метод выращивания микобактерий Гамалеи – Страусса, который сделал возможным разработку этой вакцины. Однако Кох не упомянул в сообщении имён авторов этой методики (т.е. Гамалеи и Страусса).
В начале 90-х годов изучение микробных токсинов только начиналось. И, как уже отмечалось, Н.Ф. Гамалея выпустил один из первых трудов по этой проблематике («Бактерийные яды», 1892 год). Изучал Николай Фёдорович и токсины, вырабатываемые туберкулёзной микобактерией. Он установил, что, как и в случае ядов, вырабатываемых другими микробами, токсины палочки Коха могли в определённом количестве вызывать невосприимчивость к ним макроорганизма. Основываясь на этом наблюдении, учёный задался целью отыскать и изолировать имеющиеся в туберкулёзных бактериях вакцинирующие вещества, чтобы воспроизвести иммунитет без вредного воздействия на ткани. Уже в 1891 году им было выделено вещество, названное им туберкулоцерином. В 1913 году это (или сходное) вещество было изучено биохимиками, определено как высокомолекулярный алкоголь и названо миколом.
Николай Фёдорович настойчиво возвращался к изучению палочки Коха. В частности его очень интересовал вопрос противотуберкулёзного иммунитета.
И вот как раз в 1924 году ему удалось установить, что серые крысы (пасюки) исключительно устойчивы к туберкулёзу. Животным вводились огромные количества микобактерий. Но в их организмах эти микробы быстро разрушались, и невосприимчивость крыс к повторным заражениям только усиливалась. До этого момента считалось, что палочка Коха в макроорганизме вообще не уничтожается благодаря своей особо устойчивой оболочке. Оказалось, это не так.
Надо полагать, что именно тогда, в 1924 году, зародилась у Гамалеи мысль о создании противотуберкулёзного препарата на основе тех веществ из организмов пасюков, которые подобным образом действуют на микобактерии, обеспечивая крысам стопроцентный противотуберкулёзный иммунитет.
Но от идеи, общего замысла до его воплощения – дистанция огромного размера, огромный труд, большая научная работа. А Николаю Фёдоровичу приходилось заниматься своим «любимым микробом» всё-таки урывками, ибо основной его специализацией на тот момент была оспа, точнее – противооспенная вакцина. Сверх того, множество других дел и обязанностей не давали ему физической возможности полноценно заниматься вопросом получения противотуберкулёзного препарата.
В 1928 году нарком здравоохранения Семашко отзывает Н.Ф. Гамалею в Москву. В столице Николай Фёдорович должен был возглавить вновь создаваемый Центральный институт эпидемиологии и микробиологии. Большая организационная работа по созданию этого научно-исследовательского учреждения, в которой принял самое активное участие Гамалея, завершилась в 1930 году. Во главе института Николай Фёдорович стоял до 1938 года. Впоследствии, после смерти учёного в 1949 году, институту было присвоено его имя.
Параллельно с руководством научной работой Центрального института эпидемиологии и микробиологии Гамалея организовал исследования туберкулёзного иммунитета в одной из лабораторий ВИЭМ (Всесоюзного института экспериментальной медицины) (снова возвращение к «любимому микробу»). Во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) он наладил изучение вирусных болезней домашних животных. С 1932 по 1938 год работал научным консультантом одной из лабораторий Биохимического института.
Одновременно Николай Фёдорович уделял большое внимание организации научной деятельности в союзных республиках. Так, в 1931 году он возглавил создание Института эпидемиологии и микробиологии в Армянской ССР (в Ереване).
Многообразна и общественная деятельность Гамалеи, точнее сказать – научно-общественная. Он был одним из учредителей Всесоюзной ассоциации работников науки и техники, одним из создателей и активных членов Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, с 1939 года бессменно руководил Всесоюзным обществом микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов (сначала как председатель, а затем – как почётный председатель), участвовал в конференциях, съездах, юбилейных заседаниях.
При всей этой нагрузке Николай Фёдорович продолжал лично работать в лаборатории.
Остаётся только поражаться работоспособности, неиссякаемой энергии, энтузиазму Н.Ф. Гамалеи, которому в 30- годы уже «перевалило» за семьдесят, а в 1939 году исполнилось 80 лет.
Советское правительство и научная общественность высоко оценили вклад Н.Ф. Гамалеи в отечественную науку и организацию здравоохранения в нашей стране. В 1939 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР, а уже в 1940 году он становится почётным академиком.
Но из песни слова не выкинешь. Николай Фёдорович жил не в идеальном мире науки, а в реальном мире с его проблемами. Идущие в обществе процессы, свершающиеся крупные события так или иначе затрагивали и его.
Прокатившаяся по стране в 1937 – 1938 годах волна репрессий больно ударила и по отечественной микробиологии. Были репрессированы (отправлены в лагеря, расстреляны) многие не только рядовые сотрудники, но и видные учёные (С.В. Коршун, В.А. Барыкин, И.Л.Кричевский, Л.А. Зильбер, А. А. Захаров и др.). Как правило, их обвиняли в попытках массовых отравлений и заражений советских граждан через воду, воздух, пищу. По подобному обвинению был брошен в тюрьму и сын Николая Фёдоровича. Будучи военным бактериологом, он служил на Дальнем Востоке. Угодив в тюрьму, Фёдор Николаевич полтора года дожидался расстрела. Ему повезло: после доследования он был выпущен на свободу.



