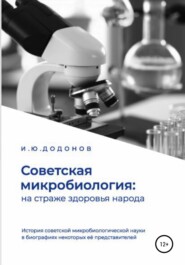 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
На летний сезон 1888 года станция заключила договор с богатым помещиком Панкеевым о вакцинации его многочисленного овечьего стада. Непосредственно станцией в тот момент руководил Н.Ф. Гамалея, так как И.И. Мечников из-за состояния здоровья жены вынужден был уехать с ней в деревню. На место осуществлять прививание выехал Я.Ю. Бардах.
Тут-то и произошло то, что до сих пор является загадкой: после вакцинации несколько тысяч животных пало. В чём причина? То ли вакцину хранили ненадлежащим образом, то ли была нарушена технология её изготовления (и в ней содержались сохранившие свою патогенность микробы), то ли вакцины оказались подменены образцами исходных, неослабленных культур сибирской язвы (но кем? И случайно или намеренно?)? Всего этого мы, очевидно, сейчас уже не узнаем.
Разразился страшный скандал. Разом перечёркивались и репутация Одесской прививочной станции, и научный авторитет её работников (в том числе Мечникова и Гамалеи). Консерваторы и ретрограды получили возможность громогласно подвергнуть сомнениям и критике метод Пастера. Т.е. в России началось, примерно, то же, что год – полтора тому назад происходило во Франции и Англии.
Сверх того, помещик Панкеев, понёсший большие убытки, подал имущественные иски на И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалею, Я.Ю. Бардаха.
Поскольку ни Мечников, ни Бардах какими-либо значительными средствами не располагали, то основная тяжесть урегулирования финансовых претензий была взята на себя Гамалеей.
Указанные события привели к тому, что И.И. Мечников решил покинуть Россию. Илья Ильич и ранее весьма критически относился к российским порядкам, конфликтовал с властями и реакционной профессурой, которая имела значительное влияние в научных и учебных учреждениях Российской империи. Удар по своему научному авторитету он воспринял крайне болезненно, тем более в ситуации, когда его недруги всячески пытались раздуть скандал и обвинить его «во всех смертных грехах».
Необходимость уехать за границу диктовалась также и состоянием здоровья жены. Ей требовались перемена климата и консультации и лечение европейских специалистов.
Илья Ильич уехал в Италию, поселившись на Сицилии, а затем, спустя некоторое время, перебрался в Париж, где стал работать в Пастеровском институте.
«Дело помещика Панкеева» привело к разладу между учителем и учеником. Глубоко уязвлённый И.И. Мечников считал Н.Ф. Гамалею виновником случившегося. И формально он был прав, ведь «недогляд», приведший к падежу овец Панкеева, случился в момент, когда обязанности директора Одесской прививочной станции исполнял Н.Ф. Гамалея, а следовательно, как руководитель, отвечал за деятельность учреждения и своих подчинённых.
В конечном итоге Николай Фёдорович решил все проблемы, обрушившиеся на него, его коллег, Одесскую прививочную станцию в связи с «Панкеевским делом», в том числе и финансовые. Но, увы, добрые отношения между учителем и учеником так и не восстановились. Более того, это «дело» «аукнулось» (кто бы мог подумать!) в Париже и привело к разрыву отношений Гамалеи со своим французским учителем, т.е. Луи Пастером. Но об этом немного ниже.
Несмотря на все передряги и заботы, возникшие из-за «Панкеевского скандала», Николай Фёдорович не прекращал упорной работы по изучению холеры.
Лабораторные опыты и исследования сочетались у него с работой в губернских, городских и больничных архивах, где он изучал документы, связанные с холерными эпидемиями, поездками в города (Баку, Саратов и др.), где возникала очередная вспышка этого опасного и совсем нередкого в тогдашней России заболевания. Здесь, на местах, Гамалея не только участвовал в борьбе с холерой, помогая местным врачам, но и старался понять, откуда «выскакивает» данная инфекция, где она «отсиживается» в период между своими вспышками, каким образом распространяется.
Эти напряжённые усилия дали свои результаты.
Гамалее удалось установить, что холерный вибрион может существовать как сапрофит в водоёмах, канавах с водой, турецких банях, в которых используются бассейны. Попадая из воды в человеческий организм, вибрион начинает жить как патоген. Первый вывод, который следовал из этого открытия, был чисто практический, прикладной, призванный помочь борьбе с холерой, предотвратить её вспышки, – необходима дезинфекция водоёмов (особенно со стоячей водой) и водных ёмкостей, использующихся так или иначе в бытовых целях (резервуаров, купален, бассейнов). В частности Николай Фёдорович установил, что именно купальни и бассейны турецких бань в Баку являлись источником холерных эпидемий, периодически обрушивавшихся на город. Второй вывод носил более широкий, научно-теоретический, характер: оказывается, бактериям свойственна изменчивость. Это касается как их морфологии, так и физиологических функций. На тот момент указанный вывод носил, буквально, революционный характер, ибо в микробиологической науке господствовало убеждение в постоянстве и неизменяемости микробных видов. На позициях неизменяемости стоял и открыватель холерного вибриона Роберт Кох. Но Николай Фёдорович не побоялся пойти против одного из столпов микробиологии. В дальнейшем исследования учёных подтвердили его абсолютную правоту. И Гамалея, по сути, открыл новую главу не только в микробиологии, но и в биологии вообще, ведь он показал наличие влияния внешней среды на развитие организмов, их изменчивость.
Лабораторные исследования, а также наблюдения в местах эпидемических вспышек постепенно убедили Гамалею в том, что главный путь распространения холеры – водный. При этом он не отрицал и контактно-бытовой способ передачи болезни (через грязные руки, вещи), убедился, что вибрион может разноситься и насекомыми (особенно мухами). Но эти пути всё-таки менее значимы. В данном случае мнение Гамалеи совпало с мнением Коха – он тоже предполагал, что главный путь распространения открытого им вибриона – водный.
Однако тут уже и Кох оказался в меньшинстве: большинство европейских учёных и врачей считали главным контактно-бытовой путь. Но почему?
Всё просто: бытие определяет сознание. Дело в том, что в Западной Европе водопровод с очисткой и дезинфекцией речной воды был тогда уже практически повсеместным явлением. И «чистенькая водичка» из-под крана не давала кабинетным учёным и практикующим врачам оснований увидеть, что именно с ней может прийти страшная болезнь. Ну а «прыгать» по водоёмам, брать пробы воды и корпеть над ними в лабораториях, стараясь обнаружить в них холерный вибрион, а обнаружив, выяснять, насколько он патогенен, эти респектабельные и солидные господа труда себе не давали.
Другое дело – Россия… Тут в последней четверти XIX – начале ХХ века холеру, что называется, «подавали прямо к столу». В тех городах, где существовало централизованное водоснабжение, процедуры обеззараживания забираемой из рек воды не было. Между тем, в эти реки уходили (и, как правило, в черте города) и канализационные стоки (наличие централизованного водопровода предполагало и наличие централизованной канализации). Подобный порядок имел место даже в столичных городах – Петербурге и Москве. Что уж говорить о провинции?
Как говорится, «пейте на здоровье»… Вот Пётр Ильич Чайковский, например, и выпил…
Когда Николаю Фёдоровичу стали ясны причины холерных вспышек в различных российских городах и основной путь распространения этой болезни, он обратился к властям с проектом проведения широких профилактических противохолерных мероприятий, первым пунктом в котором значилось усовершенствование централизованного водоснабжения (там, где оно есть; в частности в Петербурге). Однако власти как в столице, так и на местах отвергли проект учёного. Нежелание давать на его реализацию деньги подкреплялось ссылкой на западные авторитеты. Только спустя многие годы (к 1910-м годам), когда Н.Ф. Гамалея был уже всемирно известным учёным, когда подтвердились и были приняты за рубежом его научные наблюдения и открытия, правительство стало выделять какие-то деньги на предложенные им противохолерные мероприятия. Но в масштабах страны их было крайне недостаточно. «Россия, которую мы потеряли…»
Проводил Гамалея и интенсивные изыскания с целью приготовления противохолерной вакцины.
Здесь требуются некоторые пояснения.
Сейчас, в наше время, наука располагает большим арсеналом вакцин против множества опасных заболеваний (оспы, чумы, сибирской язвы, бешенства, полиомиелита, туберкулёза и др.). Отработаны и технологии изготовления этих вакцин. Микробов убивают (инактивируют) или ослабляют химическим, термическим, комбинированным (химико-термическим) способами. Вакцины бывают живые (из ослабленных микробов), убитые (из мёртвых микробов) и так называемые химические (из антигенной составляющей микроба, которая сама по себе даже непатогенна). В 1-й главе книги обо всём этом подробно рассказывалось.
Но к подобному «совершенству» (говоря, разумеется, с определённой долей условности) в технологиях изготовления вакцин микробиологи пришли не сразу.
Да и вакцин в 80-х годах XIX столетия было совсем не много. В прямом смысле слова, их можно было пересчитать по пальцам одной руки.
И все те современные способы изготовления вакцин, о которых мы сказали выше, были тогда либо неизвестны, либо их разработка находилась в зачаточной стадии.
Тогда учёные пытались приготовить вакцины, ослабив микробы путём пассажа через организмы животных. При этом или использовались животные, которые в обычном состоянии к подобным патогенам невосприимчивы (для заражения искусственно понижали резистентность их организмов), или патоген «прогоняли» через множество организмов животных, восприимчивых к заболеванию изначально. В обоих случаях надеялись, что микроб всё-таки понизит свою вирулентность. В первом случае из-за того, что попадает в не совсем благоприятную для себя среду, во втором – проходя по длинной «цепочке», будет на каждом из «звеньев» (во всяком случае, с какого-то этапа) «оставлять» часть своей заразности.
Так, вакцина против бешенства первоначально получалась путём множественного перезаражения кроликов. С какого-то момента спинной мозг заражённого кролика подвергали просушке. Далее препарат нарезался и помещался в стерильный бульон.
Для изготовления сибиреязвенной вакцины Пастер пытался заражать куриц, в обычных условиях к сибирской язве невосприимчивых. Для заражения он искусственно понижал температуру их тел, ставя животных в холодную воду. Затем заболевших куриц он укутывал в вату, повышая их температуру. Курицы поправлялись. Но добиться таким путём получения достаточно ослабленной сибиреязвенной бациллы Пастеру не удалось. Тогда для дальнейшего её ослабления Пастер использовал карболовую кислоту (метод был предложен профессором Туссеном из ветеринарной академии Тулузы). На сей раз сработало. А Туссена можно считать зачинателем химического метода ослабления микробов для получения вакцин.
Причём все первые вакцины (против бешенства, сибиреязвенная, против краснухи свиней) были живыми.
В общем, Николай Фёдорович Гамалея, предприняв попытку изготовить противохолерную вакцину, пошёл первоначально по единственному более или менее проторенному тогда пути: он решил ослабить холерный вибрион, пассировав его через организм птиц (голубей). В Одессе он провёл ряд опытов, которые, казалось бы, дали положительный результат.
Свои опыты Николай Фёдорович решил повторить в Париже, в Пастеровском институте.
Начиная с 1886 года, он ежегодно выезжал к Пастеру (в лабораторию, затем – в институт) в командировки. Пастер несколько раз предлагал талантливому учёному остаться в Париже насовсем. Однако Н. Ф. Гамалея жизни без России не мыслил и хотел работать в основном именно на родине. Ежегодные же поездки в Париж, в один из ведущих центров микробиологической науки, позволяли ему повышать свой профессиональный уровень, делиться опытом.
Но, как уже упоминалось, в Пастеровском институте стал работать, в итоге, и уехавший из России И.И. Мечников. К сожалению, отношения учителя и ученика не наладились. Как позднее вспоминал Гамалея, он остро чувствовал недоброжелательство к себе со стороны Ильи Ильича.
В коллективе института стала складываться напряжённая обстановка. Пастер не мог этого допустить и был, таким образом, поставлен перед необходимостью выбора – Мечников или Гамалея. Чаша весов склонялась не в пользу Николая Фёдоровича. Ведь Мечников – учёный с мировым именем, работавший у Пастера на постоянной основе. К тому же Пастер ещё и сам его пригласил. Гамалея же хоть и обладал немалой известностью в научных кругах, но был всё-таки учеником Ильи Ильича, а у Пастера в институте бывал лишь в относительно кратковременных научных командировках.
Словом… Словом, Пастеру следовало поговорить с Николаем Фёдоровичем, как говорится, по-человечески, объяснить ситуацию и свою позицию. Думаем, Гамалея понял бы своего учителя.
Увы, Пастер предпочёл другой способ действий, который довольно трудно считать порядочным (хотя видимость приличий была соблюдена).
Опыты с ослаблением холерного вибриона пассажем через организмы голубей у Гамалеи в Пастеровском институте «не пошли». Результат был отрицательный. В чём причина? Почему в Одессе опыты удались, а в Париже нет? Сказать трудно. В литературе можно прочесть, что в ходе работы над вакциной Гамалея открыл холероподобный птичий вибрион, который получил название «вибрион Мечникова» или «мечниковский вибрион». Безусловно, открытие нового вида микроорганизма – это научный успех. Но в данном случае, очевидно, именно этот вновь открытый вибрион сыграл с Николаем Фёдоровичем «злую шутку». Может быть, это именно на нём наблюдал он эффект ослабления вирулентности (вибрион Мечникова для человека не патогенен)? Т.е. перепутал птичий вибрион с его заразным для человека двойником?
Как бы там ни было, но опыты в Пастеровском институте не удались. И Пастер, заявив, что учёному, допускающему такие провалы и ошибки, в его институте, как-никак – солидном научном учреждении международного уровня, не место, указал Гамалее на дверь.
Николай Фёдорович был глубочайше уязвлён. Обида была страшная. Но Гамалея обладал не только большой физической силой, но и большой душой – пройдёт время, и он простит и Пастера, и Мечникова. До конца жизни он сохранит искреннее уважение к этим людям и всегда с гордостью будет называть себя их учеником.
А пока Гамалея вернулся в Россию и продолжил свою работу по изучению холеры. Первым пунктом в этой работе стояло получение противохолерной вакцины. Николай Фёдорович решил уйти от способа пассировки микроба через организм животных и использовать способ воздействия на микробы химическими веществами. При этом он предложил не просто ослабить, а убить вибрион, допустив, что инактивированный патоген сохранит свои иммуногенные свойства. И он оказался прав. Таким образом, Гамалея не только развил находившийся в зародышевом состоянии метод получения вакцин с помощью химических веществ, но и создал новый тип вакцин – убитые вакцины.
Излишне говорить, что созданную им вакцину Н.Ф. Гамалея испытал на себе. Затем добровольцем-испытателем выступила жена Николая Фёдоровича.
Изучая действие своей противохолерной вакцины, Николай Фёдорович сделал попутное открытие. В своих «Воспоминаниях» он написал, что лихорадка, которой сопровождалась прививка, по существу, была той самой «туберкулиновой лихорадкой», которую спустя два года описал как своё открытие Роберт Кох [10; 14]. Гамалея выдвинул теорию вакцинной лихорадки, доказав на опытах, что лихорадочная реакция, повышение температуры – одно из проявлений выработки иммунитета к возбудителю.
Испытав действие разработанной им противохолерной вакцины, проверив её эффективность, Николай Фёдорович при активнейшем содействии своих сотрудников и учеников начал добиваться широкого проведения в России противохолерных прививок. Многое удалось сделать, хотя содействие властей в этом вопросе было минимальным. Только во время Первой мировой войны вакцинация против холеры обрела поистине большой масштаб (прививались как военные, так и гражданское население).
В ходе изучения холерного вибриона Н.Ф Гамалее удалось установить, что он вырабатывает не один, как считалось ранее, а два яда, и оба являются эндотоксинами.
Кстати, о микробных токсинах. В предыдущей главе говорилось, что на рубеже 80 – 90-х гг. XIX столетия началось интенсивное изучение микробных токсинов. Николай Фёдорович внёс в это изучение немалый вклад. Уже в 1892 году вышла его работа «Бактерийные яды», в которой он обобщил результаты своих исследований в этом вопросе. Гамалея доказывал, что болезнетворное действие микробов обусловлено, в основном, влиянием их ядов (токсинов) на макроорганизм. Теперь это положение общепризнанно, тогда – было внове.
Остаётся только поражаться работоспособности учёного, ибо уже в следующем, 1893, году он подводит некоторые итоги своего изучения холеры и защищает докторскую диссертацию под названием «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии».
Защита проходит в Петербурге, в стенах Военно-медицинской академии, которую Николай Фёдорович немногим менее десяти лет назад закончил. Проходит блестяще. Новоиспечённого доктора медицины тут же приглашают на работу: директор терапевтической клиники Военно-медицинской академии профессор Ф.И. Пастернацкий предлагает Гамалее устроить в клинике и возглавить бактериологическую лабораторию. Николай Фёдорович соглашается.
Необходимо сказать, что с защитой диссертации Гамалея не прекратил свои исследования холеры. В общей сложности он посвятил этой тематике около двух десятков лет. Специалисты отмечают, что, несмотря на большие достижения Гамалеи в изучении различных инфекционных заболеваний, исследовании многих вопросов микробиологии, именно в области изучения и профилактики холеры лежит наиболее выдающийся вклад учёного в науку и медицинскую практику.
Итак, около трёх лет, с 1893 по 1896 год, Гамалея плодотворно работал в Петербурге, в клинике Пастернацкого. И тем не менее в 1896 году он вернулся в Одессу. Очевидно, тянуло на малую родину, к своему первому, а потому и по-особенному любимому детищу – Одесской бактериологической станции. На её базе Николай Фёдорович планирует создать Бактериологический институт. Три года практической и исследовательской работы10 на станции учёный сочетал с организационной деятельностью. Наконец, в 1899 году институт был открыт. Николай Фёдорович стал его директором.
Институт занимался не только научными исследованиями. Микробиологическая подготовка врачей, диагностика инфекционных заболеваний и борьба с ними, изготовление вакцин и сывороток, проведение вакцинаций – вот полный перечень дел руководимого Гамалеей научного учреждения.
Но учреждение это было частным. Государство не выделило на создание Бактериологического института в Одессе ни копейки. Институт создавался на средства Гамалеи. На его же деньги, в основном, и содержался. Какие-то средства приносили оказание некоторых платных услуг, пожертвования меценатов, помощь земства и Одесской городской управы.
Между тем царская Россия, как уже отмечалось, была «богата» на эпидемии. В таких условиях важность того, чем занимался Одесский бактериологический институт, была огромна, и невнимание к нему правительства свидетельствовало, по меньшей мере, об умственной «близорукости» этого правительства.
Подобная «близорукость» вскоре сказалась. И ни где-нибудь, а в Одессе. И именно Гамалея и возглавляемый им институт спасли город от страшной беды, обрушившейся на него.
Летом 1902 года в Одессе возникла эпидемия чумы.
Николай Фёдорович и его сотрудники тут же включились в борьбу с нею.
Для Гамалеи причина эпидемии была очевидной. Он и до этого в своих лекциях и статьях утверждал, что если не истреблять крыс, то отдельные заболевания чумой могут привести к эпидемии. С учётом того, что Одесса – город портовый, вероятность заноса отдельных случаев чумы на судах, пребывающих отовсюду, в том числе и из стран, где вспышки этой страшной болезни – явление нередкое, очень и очень велика.
Давно было известно, что серые крысы (пасюки) являются предвестниками чумы, к которой они очень восприимчивы. Крысы несли в себе заразу, являясь как бы резервуаром чумных бактерий. И не только они сами широко разносили её. Это делали ещё и блохи. Если среди крыс начинался массовый «падёж», значит, чума вырвалась наружу, значит – жди беды.
Всё это прекрасно было известно и Гамалее, и его сотрудникам.
Но контрольных мер в Одесском порту не проводилось, несмотря на требования директора Бактериологического института.
Сверх того, именно весной 1902 года у властей Одессы не нашлось денег для истребления крыс. Последние очень сильно размножились.
Чума «приехала» в Одессу на пароходе «Мария Терезия», прибывшем в город с грузом риса. Ещё в пути на судне заболел матрос. Он скончался накануне прибытия в Одесский порт. Поэтому капитан корабля запросил разрешения похоронить его на берегу, на городском кладбище. Портовое начальство проявило преступную халатность и даже не попыталось как следует выяснить причины смерти моряка, не говоря уже о помещении судна, его команды и груза в карантин. «Мария Терезия» разгрузила свой смертоносный груз, который был помещён в один из портовых складов; умерший матрос был похоронен без всяких предосторожностей на городском кладбище… А вскоре в городе начался повальный мор среди крыс. Очень быстро в городе начали заболевать и люди.
Гамалея действовал как опытный эпидемиолог. Он прошёлся по «цепочке» и указал властям на главный источник заразы – склад риса в порту. Тут же последовало требование и к портовым, и к городским властям – уничтожить склад и его содержимое. Однако властям оказались ближе коммерческие интересы хозяина риса. К тому же и сеять панику в городе, к которой повело бы, по их мнению, сожжение целого склада с его содержимым в порту, они не хотели. Очевидно, власть предержащие надеялись, что «авось как-нибудь рассосётся». Но чума – не та болезнь, которая «как-нибудь рассасывается».
Когда случаи заболевания людей стали множиться, власти, изрядно перепугавшись, согласились на все требования Н.Ф. Гамалеи.
Начали, разумеется, с уничтожения «знаменитого» рисового склада. Далее Гамалея организовал первую всеобщую дератизацию в Одессе, как тогда говорили – крысоистребление. В течение 12 дней созданные специальные отряды истребляли крыс на судах в порту, на территории порта, в подвалах городских зданий. Трупы крыс сжигались. Искались и сдохнувшие сами от чумы крысы. Для этой цели даже вскрывались полы в городских зданиях.
Больные люди изолировались. Им вкалывали сыворотку. Для профилактики заражения применяли противочумную вакцину. Столь энергичные меры учёных и врачей под руководством Н.Ф. Гамалеи позволили погасить чумную вспышку в самом начале.
По результатам борьбы с эпидемией в Одессе Гамалееей был разработан комплекс мероприятий по предупреждению заносов чумы в портовые города России. Однако реализовать эти мероприятия, да и то отчасти, Гамалея смог только несколько лет спустя, когда сам «попал во власть».
Учёный справедливо полагал, что огромную роль в борьбе с заразными болезнями играет дезинфекционное дело, т.е. уничтожение возбудителей этих болезней в окружающей среде. Он уделял большое внимание вопросам обеззараживания одежды, помещений, бытовых предметов, уничтожению переносчиков некоторых заболеваний (грызунов (дератизация) и насекомых (дезинсекция)). Кстати, последний термин был введён в научный и практический оборот именно Гамалеей (от латинских «dis» – уничтожение и «insectum» – насекомое).
Понятно, что все эти положения были ценны для борьбы не только с чумой, но и с многими другими опасными инфекционными заболеваниями (холерой, разными видами тифа, малярией и др.). Те же крысы, кроме чумы, могут разносить ещё и туляремию, эпидемическую желтуху, паршу, содоку, бешенство, различные кишечные отравления, брюшной тиф.
В 1908 году Николай Фёдорович был уже не в состоянии финансировать деятельность Одесского бактериологического института из своих средств. Попросту говоря, состояние Гамалеи было исчерпано. А государственной поддержки институт, несмотря на свои заслуги в борьбе с одесской чумой в 1902 году, так и не дождался. Деятельность института пришлось приостановить. Работу продолжала только пастеровская станция.
Сам Гамалея принимает предложение занять место санитарного инспектора в Медицинском Совете Министерства внутренних дел и вновь перебирается в Петербург. Т.е., по сути, Николай Фёдорович становится государственным санитарным врачом. Это и был тот «приход во власть», о котором мы упоминали выше. На данной должности учёный работает с 1908 по 1912 год.
Именно в этот период Николаю Фёдоровичу удаётся провести в жизнь многие из тех мероприятий по борьбе с холерой и чумой и их предупреждению, осуществление которых он предлагал властям ещё несколько лет назад, в частности усовершенствование водоснабжения в российских городах, где имелся централизованный водопровод, усиление контрольно-карантинной службы в морских портах, проведение противохолерных и противочумных вакцинаций в местностях, наиболее подверженных вспышкам этих заболеваний, и ряд других.



