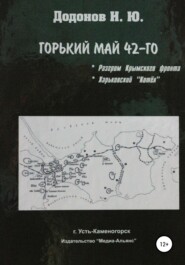 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
Именно отсюда проистекли и лишение должной авиационной поддержки наступающей южной советской группировки (6-й армии Городнянского и группы Бобкина), т.к. почти вся авиация была переброшена «на север» для борьбы с «неожиданными» немецкими танками, и задержка с вводом в дело 21-го и 23-го танковых корпусов в полосе прорыва 6-й армии Городнянского, т.к. советское командование должно было, по крайней мере, подождать развития событий «на севере».
Кстати, просчёт с количеством танков в немецкой танковой дивизии – вина не только командования ЮЗН, но и командования Красной Армии вообще. Ещё предвоенные планы развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на случай войны с Германией исходили из предположения о 500 танках в немецкой танковой дивизии (это особённо отчётливо видно по «Уточнённому плану…» от 11 марта 1941 года). Спустя почти год после начала войны с немцами так и не выяснили, что максимальное количество танков в танковой немецкой дивизии – около 220 машин (при трёхбатальонном составе единственного танкового полка дивизии). Если же количество батальонов в полку равно двум (что бывало в 42-м году гораздо чаще), то количество танков в танковой дивизии – около 150. Ни о каких пятистах машинах и близко речи не шло, даже в 1941 году, не говоря о 1942-м, когда немцы уже были изрядно потрёпаны в ходе войны с СССР.
Как видим, бывает очень опасно не только недооценивать, но и значительно переоценивать силы противника.
В-четвёртых, командование ЮЗН ожидало увидеть крупную немецкую танковую группировку в районе Змиева, каковой там не оказалось вообще. К.В. Быков утверждает, что ошибочную информацию в данном случае предоставила «партизанская разведка» [5; 10]. Командование ЮЗН со своей стороны эту информацию должным образом не перепроверило. В итоге наступление немецких танков со стороны Змиева ожидалось даже тогда, когда под Харьковом обнаружились «лишние» танки противника. И это явилось ещё одной причиной, по которой 21-й и 23-й танковые корпуса ввели в прорыв позже, чем предполагалось: их держали для парирования удара «змиевских» германских танков. Подобное «а вдруг» – следствие плохо поставленной и проведённой разведки.
В целом, надо отметить, что плохая разведка и игнорирование разведданных командованием явились обстоятельствами, обусловившими, в числе прочих, наше поражение в Харьковском сражении мая 1942 года.
* * *
Сказав о планах сторон, отметив недочёты советского планирования, прежде чем начать изложение хода Харьковского сражения, всё же остановимся на тех силах, которые участвовали в нём с обеих сторон. Частично, говоря о планах нашего командования, этого вопроса мы уже касались. Но осветить его хотелось бы подробнее.
Сейчас у некоторых авторов можно встретить навеянное мемуарами и разного рода историческими военными писаниями немцев утверждение, что победу в мае 1942 года под Харьковом вермахт одержал, значительно уступая в силах советским войскам.
Скажем сразу, что подобное утверждение вряд ли можно признать справедливым. Во всяком случае, ни о каком значительном превосходстве сил Красной Армии над немцами в Харьковском сражении говорить не приходится. Рассмотрим это положение на конкретных цифрах.
Согласно данным исследовательской группы генерала Кривошеева, численность советской группировки, задействованной в харьковских событиях в мае 1942 года (Юго-Западный фронт и 9-я и 57-я армии Южного фронта), составляла 765 300 человек [7; 179], [31; 311]. Без преувеличения можно сказать, что информация генерала Кривошеева и его коллег, специально много лет занимавшихся вопросами изучения потерь Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны, является максимально достоверной и вызывает наибольшее доверие. Говорится это к тому, что по численности группировки наших войск под Харьковом имеются и другие цифры. Так, А. Галушко и М. Коломиец в своей работе «Бои под Харьковом в мае 1942 года» приводят следующие данные: войска ЮЗФ, ЮФ (9-я и 57-я армии) к началу операции имели в своём составе 640 000 человек [9; 5]. Но мы остановимся всё-таки на числе, приводимом Кривошеевым, и не только по вышеуказанной причине, но и для того, чтобы избежать упрёков в пристрастности, т.к. цифра в книге А. Галушко и М. Коломиеца отличается от «цифры Кривошеева» на 125 300 в меньшую сторону, т.е. «играет» в пользу нашего утверждения.
Противостоящая нашим войскам немецкая группировка к началу мая насчитывала 636 000 человек [9; 5].
Соотношение по людям – 1,2:1 в пользу советских войск.
Как видим, никакого «глобального» численного перевеса к началу операции под Харьковом советские войска над силами вермахта в этом районе не имели. И сейчас мы не говорим о тех подкреплениях, которые прибывали к немцам уже в ходе развернувшегося сражения.
Вообще же, надо заметить, что начинать наступательную операцию, не имея значительного перевеса в силах над противником, не просто легкомысленно, но, буквально, безумно. И командование ЮЗН было убеждено, что оно под Харьковом значительно превосходит противника. На самом деле оно ошибалось. Противника оно не дооценило.
Убедительный перевес у нас был по количеству задействованных в операции соединений и частей.
К исходу 11 мая в составе Юго-Западного фронта насчитывалось 29 стрелковых, 1 мотострелковая и 9 кавалерийских дивизий, 4 мотострелковые, 19 танковых бригад. Кроме того, имелось четыре отдельных танковых батальона. Действия войск фронта должны были поддерживать 32 артиллерийских полка. Правда, к началу операции на позициях были всего 17 из них, ещё 11 находились в районах сосредоточения в 12-15 км от назначенных им позиций, а 4 полка вовсе не прибыли [17; 321].
В 28-ю армию (командующий – генерал Д.И. Рябышев) входило 6 стрелковых дивизий (13-я гвардейская, 244, 175, 169, 162 и 38-я), 3-й гвардейский кавалерийский корпус (5, 6-я гвардейские, 32-я кавалерийские дивизии, 34-я мотострелковая бригада), 4 танковых бригады (6-я гвардейская, 84, 90 и 57-я), 9 артполков РГК [5; 431], [17; 313], [28; 184, 188].
В состав 21-й армии (командующий – генерал В.Н. Гордов) входило 5 стрелковых дивизий (297, 301, 76, 293 и 227-я), 1 мотострелковая дивизия (8-я), 1 мотострелковая бригада (1-я), 1 танковая бригада (10-я), 1 отдельный танковый батальон (8-й), 4 артполка РГК. Но надо заметить, что для прорыва немецкой обороны отряжались только 3 левофланговых стрелковых дивизии армии (76, 293 и 297-я) и 10-я танковая бригада [5; 430-431], [17; 314], [28; 188].
38-я армия (командующий – генерал К.С. Москаленко) включала 6 стрелковых дивизий (226, 300, 199, 304, 81 и 124-я), 22-й танковый корпус (13, 36, 133-я танковые бригады, 51-й мотоциклетный батальон, один стрелковый батальон), 6 полков РГК. В наступление переходили четыре правофланговые стрелковые дивизии армии и бригады 22-го танкового корпуса, которые были распределены между отдельными атакующими дивизиями армии и использовались как бригады непосредственной поддержки пехоты (НПП) [5; 431-432], [9; 7], [17; 314-315], [28; 184, 188].
6-я армия (командующий – генерал А.М. Городнянский) имела в своём составе 8 стрелковых дивизий (41, 47, 103, 248, 253, 266, 337 и 411-я), 4 танковых бригады (5-я гвардейская, 37, 38, 48-я), 2 танковых корпуса (21-й и 23-й), 14 артполков РГК [5; 432], [17; 315], [28; 184, 188].
Армейская группа (командующий – генерал Л.В. Бобкин) состояла из 2 стрелковых дивизий (270, 393-я), 6-го кавалерийского корпуса (26, 28 и 49-я кавалерийские дивизии) и 1 танковой бригады (7-й) [5; 432-433], [17; 316], [28; 188].
В резерве командующего Юго-Западным фронтом находились две стрелковые дивизии (277-я и 343-я), 2-й кавалерийский корпус (три кавалерийские дивизии), 3 отдельных танковых батальона [5; 432-433], [17; 316], [28; 183].
Группировка войск Южного фронта (9-я, 57-я армии и часть фронтовых резервов), оборонявшая южный фас Барвенковского выступа, к 12 мая насчитывала в своём составе 11 стрелковых дивизий, 1 стрелковую бригаду, 3 танковых бригады, отдельный танковый батальон, 3 кавалерийских дивизии, 8 артиллерийских полков и 4 батальона противотанковых ружей [5; 458], [9; 8].
В состав 57-й армии (командующий – генерал К.П. Подлас) входило 5 стрелковых дивизий (150, 317, 99, 351-я и 14-я гвардейская), отдельный танковый батальон, 3 артполка РГК и 2 батальона ПТР [5; 458], [9; 8], [17; 331-332].
9-я армия (командующий – генерал Ф.М. Харитонов) включала 6 стрелковых дивизий (341, 106, 349, 335, 51 и 333-я), 1 стрелковую бригаду (78-я), 2 танковые бригады (15-я и 121-я), 5 артполков РГК и 2 батальона ПТР [5; 458], [9; 8-9], [17; 332].
В Барвенковском выступе находились два резервных фронтовых соединения: 5-й кавалерийский корпус (60, 34 и 30-я кавалерийские дивизии) и 12-я танковая бригада [5; 458], [9; 8-9], [17; 332].
Какие соединения с немецкой стороны противостояли советским?
Район будущего сражения делился между двумя немецкими войсковыми объединениями – 6-й полевой армией под командованием генерала Ф. Паулюса и армейской группой генерала Э. фон Клейста в составе 1-й танковой и 17-й полевой армий.
21, 28 и 38-й армиям противостояли силы 75, 79 и 294-й пехотных дивизий. В Чугуевско-Балаклеевском выступе оборонялись 297, 44 и 71-я пехотные дивизии. Направление на Змиев прикрывала 108-я венгерская легкопехотная дивизия. Далее рубеж держали 62-я пехотная и 454-я охранная дивизии. В районе Краснограда размещалась 113-я пехотная дивизия. Стык 6-й полевой армии и армейской группы Клейста обеспечивала так называемая группа Корцфлейша в составе 1, 4 и 2-й румынских пехотных дивизий, 298-й пехотной дивизии и двух третей 68-й пехотной дивизии. Большая часть группы Корцфлейша (за исключением 4-й румынской пехотной дивизии, одного полка 2-й румынской пехотной дивизии и одного полка 298-й пехотной дивизии) была сосредоточена уже в полосе обороны 57-й армии Южного фронта [9; 8], [17; 318-319].
Таким образом, к началу нашего наступления под Харьковом против войск Юго-Западного фронта оборонялись примерно 12 пехотных дивизий противника. Уже в ходе боёв немцы перебросили с севера против 21-й армии 168-ю пехотную дивизию и 88-ю пехотную дивизию неполного состава, которая действовала под названием «группа Гольвитцера» [17; 329]. В район Краснограда против группы Бобкина была переброшена 305-я дивизия противника [17; 330]. Т.е. силы немцев под Харьковом можно считать равными, примерно, 15 пехотным дивизиям.
Как уже указывалось выше, непосредственно в районе Харькова у немцев оказались сосредоточены 2 танковые дивизии (3-я и 23-я). Кроме того, действия 62-й пехотной дивизии поддерживал 194-й дивизион штурмовых орудий StuG-III, а 113-й пехотной дивизии был придан 244-й дивизион штурмовых орудий [17; 318], [9; 11], [5; 209].
Однако подобное значительное превосходство над немцами в количестве частей и соединений дало нам только полуторное превосходство в живой силе на харьковском направлении, что, безусловно, свидетельствует о меньшей штатной численности наших соединений и о меньшей их наполняемости в сравнении с немецкими [9; 5], [16; 224]. Вот что по этому поводу пишет в своих мемуарах генерал С.П. Иванов:
«…существенного количественного превосходства над противником у нас не было. Численность советских дивизий составляла в среднем не более 8-9 тысяч человек, а немецких – 14-15 тысяч» [16; 224].
Но если в полосе действий Юго-Западного фронта у нас хотя бы было превосходство в количестве соединений и численности живой силы, то в полосе правого крыла Южного фронта этого не наблюдалось.
Как уже отмечалось, 57-й армии ЮФ противостояла большая часть сил группы Корцфлейша (1-я румынская пехотная дивизия, 2 полка 2-й румынской пехотной дивизии, 2 полка 298-й пехотной дивизии, 2 полка 68-й пехотной дивизии). Далее оборонялись соединения III моторизованного корпуса генерала фон Макензена: 1-я горно-егерская дивизия, 14-я танковая дивизия, 100-я легко-пехотная дивизия, один полк 60-й моторизованной дивизии, валлонский батальон и хорватский полк. Во втором эшелоне находились две трети 60-й моторизованной дивизии. Кстати, в составе этой дивизии был танковый батальон (160-й). Затем оборону держали соединения ХLIV армейского корпуса: 97-я легкопехотная дивизия, 2 полка 384-й пехотной дивизии, 1 полк 68-й пехотной дивизии, 257-я и 295-я пехотные дивизии. Во втором эшелоне корпуса находились 101-я легкопехотная, 584-я пехотная дивизии и 1 полк 384-й пехотной дивизии [17; 319-320, 334-335], [9; 8, 15-16].
Таким образом, уже к началу советского наступления на Харьков силам Южного фронта на южном фасе Барвенковского плацдарма противостояли более 11 пехотных дивизий, 1 моторизованная и 1 танковая дивизии противника. Учитывая, что дивизии ЮФ к этому времени имели наполняемость личным составом в размере, примерно, от 45 до 65% от штатной (по штатам 1942 года), уже можно говорить, что соотношение сил складывалось на этом участке фронта не в нашу пользу. Однако до 17 мая, т.е. дня начала наступления группы «Клейст», силы последней ещё больше возросли. Для её усиления немцами были переброшены 20-я румынская пехотная дивизия, итальянская боевая группа генерала Барбо, 389-я пехотная и 16-я танковая дивизии. Противником советских 9-й и 57-й армий стали более 13 (учитывая отдельный хорватский полк и группу Барбо, можно говорить о 14) пехотных, 1 моторизованная и 2 танковые дивизии. Даже по количеству соединений на южном фасе Барвенковского выступа наблюдалось некоторое превосходство немцев. По количеству же людей войска правого крыла ЮФ значительно уступали армейской группе «Клейст». Достаточно сказать, что в районах наступления немцам удалось создать двукратное превосходство в живой силе [17; 335].
Не менее спорным является утверждение о подавляющем превосходстве советских войск, участвовавших в Харьковском сражении, над германскими в технике и вооружении.
Начнём с авиации. К проведению операции привлекались 32 авиационных полка Юго-Западного и Южного фронтов, имевших в своём составе 654 самолёта, в том числе 251 истребитель (106 ЛаГГ-3, 87 Як-1, 39 И-16, 8 И-153, 11 МиГ-3), 83 дневных бомбардировщика (27 Су-2, 26 СБ, 2 Ар-2, 28 Пе-2), 63 штурмовика (Ил-2), 142 ночных бомбардировщика (104 У-2, 31 Р-5, 7 Ил-4) [17; 316]. Хорошо видно, что значительную часть (более 20%) авиации Красной Армии в Харьковской операции составляли ночные легкомоторные самолёты, которые никак не могли быть использованы ни для поддержки действий войск в дневное время, ни для борьбы с немецкой авиацией.
Немецкую группу армий «Юг» поддерживал 4-й воздушный флот. В его составе было более тысячи самолётов [9; 5-6]. Соотношение в самолётах 1,5(1,6):1 в пользу немцев [28; 224]. Правда, к началу советского наступления большая часть 4-го воздушного флота была связана действиями в Крыму. Но германское командование оперативно перебросило значительные его силы под Харьков, и уже 14 мая, т.е. на третий день наступления войск ЮЗФ, господство в воздухе перешло к авиации противника.
Войска Юго-Западного фронта имели в обеих наступающих группировках 2860 орудий и миномётов (331 – в 21А, 893 – в 28А, 485– в 38А, 832 – в 6А, 319 – в армейской группе генерала Л.В. Бобкина) [28; 183, 188], [17; 313-316].
В противостоящей наступлению наших войск немецкой группировке насчитывалось 856 орудий калибра 75–210-мм (данных об орудиях меньшего калибра в нашем распоряжении нет) и 1 024 миномёта, т.е. всего – 1 880 стволов [16; 224]. Соотношение 1,5:1 в пользу наших войск.
Не располагаем мы и информацией о соотношении артиллерии в полосе противостояния правого крыла Южного фронта и армейской группы Клейста. Однако известно, что в последней насчитывалось всего 1 600 орудий (без учёта миномётов) [16; 224]. По утверждению генерала С.П. Иванова, количество орудий и миномётов в немецких войсках, находившихся против южного фаса Барвенковского выступа, делало соотношение сторон по артиллерии в период Харьковского сражения примерно равным [16; 224].
Наконец, обратимся к сравнению танковых сил, которыми располагали под Харьковом наши и немецкие войска.
Северная группировка Юго-Западного фронта:
21А: 10 тбр и 8 отб – 48 танков [17; 314], [9; 9], [28; 188].
28А: 6 гв., 57, 84, 90 тбр – 181 танк [17; 313], [9; 9], [28; 188].
38А: 22 тк, разбросанный по дивизиям армии побригадно (36, 133, 13 тбр) – 105 танков [17; 314-315], [9; 9], [28; 188].
Итого: 334 танка.
Южная группировка Юго-Западного фронта:
6А: 5 гв., 37, 38, 48 тбр – 166 танков,
21 тк (64, 198 и 199 тбр),
23 тк (6, 130, 131 тбр).
В обоих корпусах – 269 танков [17; 314-315], [9; 9], [28; 188].
Армейская группа генерала Л.В. Бобкина: 7 тбр – 40 танков [17; 316], [9; 9], [28; 188].
Итого: 475 танков.
Резерв командующего ЮЗФ: три отдельных танковых батальона (по 32 танка в каждом) – 96 танков [17; 316], [28; 188].
Всего танков в составе ЮЗФ к 12 мая 1942 года – 905 единиц.
206 боевых машин южной советской группировки должны были действовать как танки непосредственной поддержки пехоты. 269 танков 21-го и 23-го танковых корпусов представляли собой эшелон развития успеха.
Противостояли наступающим советским танковым соединениям на харьковском направлении 3-я, 23-я танковые дивизии, 194-й и 244-й дивизионы штурмовых орудий.
Вопрос о количестве танков в указанных танковых дивизиях немцев не столь однозначен.
23-я танковая дивизия была сформирована осенью 1941 года во Франции. Под Харьков была переброшена в марте-апреле 1942 года в качестве резерва группы армий «Юг». Так вот, в марте её 201-й танковый полк насчитывал 181 танк [17; 319]. Подчёркиваем ещё раз – данные о 181 танке в дивизии относятся к марту, а не к маю 1942 года, хотя в работах некоторых авторов этот нюанс как-то не оговаривается [9; 11]. Но ведь в боях до майского советского наступления дивизия не участвовала, потерь не несла. А вот пополнение материальной частью вполне могла получать. Словом, к 12 мая танков в ней могло быть и больше, чем 181.
3-я танковая дивизия, в отличие от 23-й, принимала активное участие в боях под Харьковом зимой-весной 1942 года. Её части понесли значительные материальные и людские потери. Но в начале апреля дивизия была выведена с фронта в Харьков. Она также получила статус резервной дивизии группы армий «Юг». В течение апреля – начале мая шло её интенсивное пополнение людьми и боевой техникой, о чём можно узнать из официальной истории этой дивизии [5; 118-121]. О результатах пополнения дивизионный историк, в частности, пишет:
«6-й танковый полк снова имел три боеспособных батальона (выделено нами – И.Д.)» [5; 120].
Однако в контрударах по трём северным советским армиям под Харьковом первоначально принимал участие только 3-й батальон танкового полка дивизии под командованием майора Зиервогеля. По состоянию на 5 мая в нём насчитывалось 45 танков [9; 11]. Некоторые исследователи как-то забывают о двух других боеспособных, по утверждению самих немцев, танковых батальонах дивизии и начинают говорить о 45 танках во всей 3-й танковой дивизии или только эти 45 танков и «кидают на немецкую чашу весов» при составлении «советско-германского танкового баланса» по состоянию на 12 мая 1942 года [17; 319], [9; 11].
Между тем советские военачальники (И.Х. Баграмян, К.С. Москаленко, С.П. Иванов), принимавшие непосредственное участие в тех трагических событиях, на основании ставших известными после окончания войны немецких документов говорят о, примерно, 370 танках противника, противостоявших нашей группировке, действовавшей северо-восточнее Харькова [2; 82, 92], [28; 194], [16; 224].
Учитывая «огрехи в вычислениях» современных историков, мы всё-таки более склонны доверять цифрам, приводимым нашими полководцами.
194-й дивизион насчитывал к началу советской наступательной операции около 30 САУ StuG-III, а 244-й дивизион – 18 САУ [17; 318], [9;11], [5; 209].
Таким образом, под Харьковом немцы имели к 12 мая около 420 танков и САУ.
В составе правого крыла Южного фронта, после передачи им пяти танковых бригад Юго-Западному фронту, оставалось всего три танковых бригады: 12, 15 и 121-я.
15-я и 121-я танковые бригады входили в состав 9-й армии
По состоянию на 7 мая в 15 тбр имелось всего 16 танков [9; 9]. Уже 7 мая бригада была введена в бой под Маяками и, конечно же, понесла какие-то потери. Об их конкретном количестве к 15 мая, дате прекращения «Маяковской» операции, нам ничего неизвестно. Но есть косвенные данные, которые позволяют судить об их примерном размере. Известно, что уже 7 мая бригада потеряла в бою 5 танков [9; 50]. Поскольку в атаке на Маяки 11 мая принимало участие всего 8 боевых машин из этой бригады, то можно констатировать потерю 8 танков к 11-му числу [9; 50], [17; 332-333]. Учитывая продолжавшиеся до 15 мая под Маяками бои, а также возможность восстановления, ремонта некоторых машин своими силами, можно с большой долей вероятности предполагать, что к началу немецкого контрнаступления в составе бригады было не более 10 боевых машин. И скорее всего, их было меньше.
В 121 тбр по состоянию на 13 мая было 32 или 34 (встречаются разные цифры) танка. С 13-го числа бригаду также привлекли к операции в районе Маяков [9; 9]. Поэтому потерь и в её составе исключать нельзя, но информацией о них мы не располагаем. Итак, 121 тбр имела к 17 мая не более 34 машин.
12-я танковая бригада составляла резерв командующего Южным фронтом, в боях под Маяками не участвовала и в дело была введена только 17 мая, т.е. её использовали уже для парирования удара группы Клейста. Но в её составе к 17 мая было всего 10 танков [9; 9].
В 57-й армии Южного фронта танковых бригад не было вообще. Армия располагала лишь одним отдельным танковым батальоном. О числе машин в нём к моменту начала немецкого наступления нам ничего неизвестно. Но с уверенностью можно говорить, что танков в батальоне не могло быть более 36 – штатная численность отдельного танкового батальона [22; 187].
Таким образом, к 17 мая 1942 года правое крыло Южного фронта могло противопоставить немцам около 80-90 танков.
Правда, всё-таки надо учесть, что уже в ходе катастрофически развивавшихся для советских войск событий, связанных с наступлением армейской группы Клейста, в помощь Южному фронту были переброшены 64-я танковая бригада из состава 21-го танкового корпуса, избежавшая окружения, 3-я и 114-я танковые бригады и 92-й отдельный танковый батальон из резервов командования Юго-Западного направления [9; 11]. Но 64, 3 и 114 тбр участвовали уже в прорыве образованного немцами кольца, а к парированию удара танковых масс Клейста был привлечён только 92 отб (о количестве танков в нём к 17 мая информации у нас нет, но известно, что когда батальон был включён в состав сводного танкового корпуса, созданного для прорыва извне кольца окружения, в нём было всего 20 машин; однако, к тому времени батальон мог понести потери; в любом случае, к 17 мая в нём не могло быть более 36 танков) [17; 341], [9; 70], [4; 237].
Какими танковыми силами против правого крыла Южного фронта располагали немцы? Здесь у них к 17 мая имелись: 14-я и 16-я танковые дивизии, 160-й танковый батальон 60-й моторизованной дивизии и дивизион штурмовых орудий.
14-я танковая дивизия действовала в районе южнее Барвенково уже с января 1942 года. В боях понесла значительные потери. В течение весны интенсивно получала машины из ремонта, а также пополнение людьми и техникой. Тем не менее укомплектованность её танками к началу наступления немцев была далека от штатной. Известно, что 36-й танковый полк дивизии был двухбатальонного состава [5; 236]. Следовательно, количество танков в нём должно было быть не менее 140 единиц. В реальности известно, что 14-я танковая дивизия и 160-й танковый батальон 60-й моторизованной дивизии вместе к 17 мая имели всего 69 танков [9; 11].
16-я танковая дивизия, снятая с фронта из-под Ростова в конце апреля, сосредоточилась в районе Краматорска в течение 15-16 мая. В зимне-весенних боях дивизия также понесла большие потери, но успела получить и значительные пополнения. К 17 мая во 2-м танковом полку дивизии (состоял из двух батальонов) насчитывалось 97 танков [9; 11], [5; 244, 246, 252].
Дивизион штурмовых орудий состоял из 17 САУ [17; 335].
Общий «танковый потенциал» немцев против войск правого крыла Южного фронта – 183 танка и САУ.
Объективность требует, чтобы при составлении «танкового баланса» сторон нами были учтены и танковые формирования, находившиеся в резерве командования Юго-Западного направления в районе, где разыгралось Харьковское сражение. О них чуть выше упоминалось, т.к. в ходе событий эти формирования были переданы в состав Южного фронта. Однако и к 12 мая (дате начала советского наступления), и к 17 мая (дате начала наступления немцев) они находились в резерве командования ЮЗН. Речь идёт о 3-й, 114-й танковых бригадах и 92-м отдельном танковом батальоне. По состоянию на 12 мая (или 17 мая; какую из указанных дат брать – в данном случае роли не играет):



