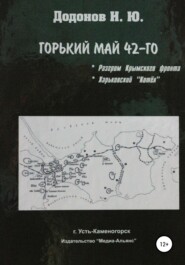 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
3-я танковая бригада имела в своём составе 33 танка [17; 341], [9; 70], [4; 237].
114-я танковая бригада – 25 танков [17; 342], [9; 70], [4; 237].
92-й отдельный танковый батальон – не более 36 танков; скорее всего – меньше [17; 342], [9; 70], [4; 237].
Всего – около 90 боевых машин.
Сравнивать «танковые потенциалы» сторон можно по-разному.
Для начала сравним общее количество танков:
В наших войсках – около 1080 танков.
У немцев – около 603 боевых машин.
Соотношение – 1:1,8 в пользу Красной Армии.
Можно сравнивать более дифференцированно, причём «степени дифференциации» будут различные.
Противостоящие друг другу Юго-Западный фронт и 6-я полевая армия немцев: 1:2,2 в пользу советских войск.
Но северная и южная группировки ЮЗФ действовали обособленно друг от друга. Поэтому целесообразно провести сравнение танковых сил в полосе действия каждой из них.
Район действия северной ударной группировки ЮЗФ: 1:1,1 в пользу немцев.
Район действия южной ударной группировки ЮЗФ: 1:9,8 в пользу Красной Армии. С учётом резервных танковых батальонов соотношение ещё более благоприятно для нас: 1:11,8.
Правое крыло Южного фронта – армейская группа «Клейст»: 1:2 в пользу германских войск.
Полоса обороны 9-й советской армии – ударная группировка группы Клейста: 1:4 в пользу немцев.
Как видим, при общем танковом превосходстве советских войск в районе Харьковского сражения примерно в два раза, на отдельных участках этого района ситуация не была столь однозначной.
В полосе действия северной ударной группировки Юго-Западного фронта немцы даже имели некоторый перевес в танках. Зато южнее Харькова Красная Армия превосходила противника в 10-12 раз! Строго говоря, танков в полосе наступления 6-й армии А.М. Городнянского и армгруппы Л.В. Бобкина у немцев не было вообще. Противостояли советской танковой лавине здесь только около 50 штурмовых орудий. То, что это убедительнейшее преимущество не было нами реализовано, явилось следствием как умелого построения немцами противотанковой обороны, так и ошибок советского командования в использовании имеющихся в его распоряжении танковых сил.
Зато в полосе удара группы Клейста германцам удалось обеспечить четырёхкратный перевес в танках. И они великолепно его использовали. Как, впрочем, умело использовали они и незначительное своё танковое преимущество против войск 21, 28 и 38-й армий северо-восточнее Харькова.
Подытоживая сказанное о силах противостоявших друг другу в Харьковском сражении группировок, можно смело утверждать, что решающего превосходства в силах (исключая общий «танковый потенциал») Красная Армия над вермахтом не имела.
ГЛАВА II
НАЧАЛО
События, разыгравшиеся в мае 1942 года под Харьковом, имеют два центра притяжения. Первый – это Старосалтовский плацдарм северо-восточнее города и районы севернее и южнее этого плацдарма. Отсюда наносили удар 21-я (командующий – генерал Гордов), 28-я (генерал Рябышев) и 38-я (генерал Москаленко) армии. Главной ударной силой была 28-я армия. Её северный фланг обеспечивал Гордов, а южный – Москаленко.
Вторым центром событий был Барвенковский выступ юго-восточнее Харькова. Из него наступала 6-я армия (генерал Городнянский) и армейская группа генерала Бобкина. Именно здесь и произошло окружение крупных сил советских войск.
Наше наступление на Харьков не было для немцев полной неожиданностью. От внимания их разведки не ускользнула концентрация войск Юго-Западного направления. Кроме того, информацию о предстоящем наступлении германское командование получало от многочисленных перебежчиков. Историки ряда немецких соединений и частей, участвовавших в харьковских боях мая 1942 года, в один голос говорят о том, что число перебежчиков с советской стороны было значительным. Поэтому германские войска тщательно готовились к отражению удара, укрепляя свои позиции. Хорошо развитая система обороны и огневого взаимодействия позволяла им держать фронт относительно малыми силами, иметь достаточные резервы в тылу для переброски на угрожаемые участки и создавать на направлениях своих ударов заметное превосходство.
Главная оборонительная полоса немцев на харьковском направлении имела глубину до 20 километров. Её основу составляли опорные пункты и узлы сопротивления, созданные вокруг населённых пунктов.
Вторая оборонительная полоса была построена в 10-15 километрах от переднего края, тыловая – в 20-25 километрах от фронта.
В 7.30 утра 12 мая, после часовой артиллерийской подготовки, войска Юго-Западного фронта перешли в наступление.
На северном участке, несмотря на то, что большое количество огневых средств противника оказалось не разведанным и неподавленным, частям фланговых 21-й и 38-й армий к концу дня удалось прорвать главную полосу обороны и продвинуться на 6-10 километров. Наступавшая в центре 28-я армия смогла вклиниться в оборону противника лишь на 2 км.
На южном участке наступление также развивалось успешно. Благодаря значительному численному превосходству советские войска уже к полудню преодолели сопротивление противника. Во второй половине дня в прорыв были введены кавалерийский корпус и танковая бригада. К вечеру глубина прорыва достигла 12-15 километров, и немцы в срочном порядке собирали все наличные силы на втором оборонительном рубеже. Советское командование ввело в бой дивизии второго эшелона. Но 21-й и 23-й танковые корпуса остались на рубежах сосредоточения в 35 километрах от района боёв.
На этот момент советская авиация практически безраздельно господствовала в воздухе как в районе действия северной советской ударной группировки, так и в районе действия группировки южной. Авиация противника в это время была занята в Крыму.
Неожиданным итогом первого дня боёв на северном участке советского наступления было наименьшее продвижение 28-й армии, на которую возлагались главные задачи по разгрому группировки противника северо-восточнее Харькова. Хотя 28-я армия имела гораздо больше сил и средств для прорыва оборонительных позиций противника, но именно на направлении её удара немцы создали наиболее плотную оборону. И это говорит о том, что их командование, благодаря стараниям своей разведки и информации, полученной от перебежчиков с советской стороны, точно определило место приложения основных усилий северной группировки войск Юго-Западного фронта.
Командующий 38-й армией К.С. Москаленко, основываясь на результатах дневных боёв, предложил командованию фронта перенести направление главного удара в полосу его армии. При этом К.С. Москаленко исходил не только из того, что 38-я армия достигла в первый день боёв наиболее значительных успехов. Дело в том, что командующий 6-й германской армией генерал Ф. Паулюс выдвинул на угрожаемое направление 3-ю и 23-ю танковые дивизии из-под Харькова. К исходу дня эти дивизии начали сосредоточение в полосе 38-й армии. Это не ускользнуло от внимания К.С. Москаленко. Как пишет он в своих мемуарах («На Юго-Западном направлении. 1941-1943. Воспоминания командарма»):
«То обстоятельство, что 226-я стрелковая дивизия (этой дивизией 38-й армии командовал генерал А.В. Горбатов – И.Д.) прорвала тактическую глубину обороны противника, должно было значительно облегчить разгром 3-й и 23-й танковых дивизий, а затем окружение и ликвидацию всей харьковской группировки противника» [28; 193].
Однако С.К. Тимошенко и И.Х. Баграмян предложение командарма-38 не приняли. Они считали, что основные усилия по-прежнему должны быть сосредоточены в полосе 28-й армии. Для парирования же возможных танковых ударов противника К.С. Москаленко было приказано вывести из боя разбросанные по стрелковым дивизиям бригады 22-го танкового корпуса. Сведённый воедино 22-й тк должен был стать, по мнению командования ЮЗФ-ЮЗН, достаточным средством против немецких танков [5; 68-69], [28; 194].
В своих воспоминаниях К.С. Москаленко, зная последовавшие в мае 1942 года события, лаконично заметил, что это «нельзя было считать достаточно эффективной мерой» [28; 194].
Для информации сообщим: накануне наступления 22-й танковый корпус имел в своём составе три танковые бригады – 36-ю, 133-ю и 13-ю. Количество танков в бригадах показано ниже:
36 тбр – 50 танков (18 – Т-60, 12 – «Матильда», 20 – «Валентайн»);
133 тбр – 23 танка (12 – Т-34, 11 – БТ различных модификаций);
13 тбр – 32 танка (14 – БТ, 6 – Т-26, 12 – «Валентайн» и «Матильда»);
Всего – 105 танков [4; 232], [9; 9].
В ходе боёв 12 мая имели место потери:
36 тбр потеряла 16 танков;
133 тбр – 2 танка [5; 136], [9; 20].
Таким образом, к моменту вступления в дело 13 мая немецких танковых дивизий в танковых бригадах оставалось:
36 тбр (полковник Т.И. Танасчишин) – 34 танка;
133 тбр (подполковник Н.М. Бубнов) – 21 танк;
13 тбр (подполковник И.Т. Клименчук) – 32 танка.
Всего – 87 танков.
Немецкая группировка, готовившаяся к нанесению 13 мая удара, насчитывала в своём составе более 220 танков [9; 11]. Первоначально в неё вошли 23-я танковая дивизия и только один из трёх батальонов (3-й) 3-й танковой дивизии. Общее же количество танков, действовавших против северной группы советских армий в ходе Харьковского сражения, оценивается генералами К.С. Москаленко и С.П. Ивановым в 370 машин (с учётом 1-го и 2-го батальонов 3-й танковой дивизии) [28; 194-195], [16; 224] ).
С утра 13 мая советское наступление продолжилось как на «севере», так и на «юге».
На северном участке 28-я армия, наконец, преодолела главную полосу вражеской обороны и вышла на подступы к Харькову. Части 38-й армии в первой половине дня продвинулись ещё на 6 километров. Однако после полудня немцы нанесли сильный контрудар подвижными группировками по стыку между 38-й и 28-й армиями [25; 145]. Одну из группировок составляли 3-я танковая дивизия и два полка 71-й пехотной дивизии. Вторую – 23-я танковая дивизия и один полк 44-й пехотной дивизии.
Советские танковые бригады немедленно вступили в бой с танками противника. В противоборстве они понесли значительные потери. По данным, приводимым М. Барятинским, 13 и 133 тбр 13 мая потеряли все свои танки, а 36 тбр потеряла 37 машин [4; 234], [5; 136-137]. При этом советские танкисты доложили об уничтожении и повреждении в ходе боёв до 100 танков противника [4; 234].
М. Барятинский пишет, что после таких потерь танковые бригады 22-го танкового корпуса, отступив, до 17 мая активных действий не вели, а занимались восстановлением материальной части [4; 324-325]. По-видимому, справедливым это утверждение можно признать только в отношении 13-й и 133-й танковых бригад. Что же касается 36 тбр полковника Т.И. Танасчишина, то она, несмотря на значительные потери, продолжала принимать активное участие в боях ещё 14 мая [5; 132, 135].
Правда, нам совершенно неясно, на каких машинах воевали танкисты Танасчишина. Ведь даже уже в боях 13 мая 36 тбр потеряла больше танков, чем у неё к этому числу оставалось: после боя 12 мая танков в бригаде должно было остаться 34, а 13 мая их потеряли 37(!). Здесь ещё можно предположить, что за ночь (с 12-го на 13-е) часть машин с незначительными повреждениями были отремонтированы собственными силами. Выволочь их с поля боя возможность имелась, т.к. 12-го числа это поле осталось за нашей стороной.
Но что могло остаться в распоряжении танкистов бригады после потерь 13 мая – вопрос? Но, тем не менее, в ночь на 14 мая, по сообщению И.Х. Баграмяна, 36 тбр совместно с пехотой 226 сд отбила у немцев село Непокрытое, оставленное нашими войсками накануне [2; 94]. А днём 14 мая танки бригады вели бои с танками 3-й танковой дивизии немцев [5; 132].
13 мая начала активизироваться немецкая авиация, поддерживая контрудар своих сухопутных сил.
В результате части 38-й армии были не только остановлены, но и несколько потеснены [25; 145]. А это, в свою очередь, привело к остановке продвижения левофланговой 13-й гвардейской стрелковой дивизии (командир – генерал-майор А.И. Родимцев) 28-й армии. Командующий армией генерал Д.И. Рябышев, принимая во внимание события у соседа слева, приказал ей закрепиться на достигнутых рубежах и приготовиться к отражению контратак противника [32; 194].
Если «на севере» день 13-го мая принёс ещё большие неприятные неожиданности, вызывавшие отклонения от первоначального плана операции, чем предыдущий день, то на южном участке наступления советских войск события развивались «как по писанному» – наши войска, продолжая наступать, расширили прорыв до 55 километров, а его глубина достигла 25-50 километров [25; 144], [4; 235]. Сопротивление противника заметно ослабло, и создались условия для ввода в прорыв танковых корпусов (21-го и 23-го). Однако 13 мая этого сделано не было. Командование ЮЗН-ЮЗФ решило дождаться выхода стрелковых дивизий на рубеж реки Берестовая, до которой оставалось 15 километров.
Забегая вперёд, скажем, что ввод танковых корпусов в прорыв был осуществлён только 17 мая. Но к тому моменту противник успел подтянуть на угрожаемый участок резервы и организовать довольно прочную оборону на тыловых рубежах [4; 236]. Словом, было упущено драгоценнейшее время. Отказ от использования подвижных соединений 13-16 мая отрицательно повлиял на развитие операции. Исследователи, отмечая указанный промах советского командования, далеко не всегда говорят о его причинах. Мы же о них упоминали выше – неожиданный по мощности танковый удар немцев в районе Старосалтовского плацдарма и ожидание танкового удара из района Змиева, откуда он не последовал, т.к. танков у противника там не было. Другими словами, – недочёты в разведке уже 13 мая пагубно сказались на ходе нашего наступления.
С утра 14 мая ещё более возросла активность немецкой авиации. Этот день характеризуется непосредственными участниками событий с советской стороны как день «смены власти» в воздухе, т.е. господство перешло к немецкой авиации [5; 131, 135]. Правда, оно ещё не являлось безоговорочным на «севере», т.к. сюда были «переключены» действия наших авиационных сил, предназначенных для поддержки 6-й армии Городнянского. Данный эффект танкового удара германцев 13 мая, несколько облегчивший положение северных советских армий, в полной мере отрицательно сказался на наших войсках, наступавших из Барвенковского выступа, поскольку они остались практически без авиационной поддержки. Уж они-то в полной мере ощутили уже 14 мая, что в воздухе стала господствовать немецкая авиация.
14 мая части 21-й армии завязли в боях за укреплённые пункты, и их продвижение остановилось.
Не менее драматично развивались события в полосе 38-й армии. Ни о каком продвижении вперёд не могло быть и речи. В течение всего дня войска армии продолжали отражать атаки двух танковых дивизий немцев. К концу дня, несколько отступив, советские части прочно удерживали восточный берег реки Большая Бабка.
28-я армия, преодолевая упорное сопротивление врага, продвинулась на 6-8 километров и вышла к тыловому рубежу немецко-фашистских войск, проходившему по правому берегу рек Харьков и Муром, но и здесь была упущена возможность ввода в бой подвижных соединений (предназначавшиеся для этих целей 3-й гвардейский кавкорпус и 38-я стрелковая дивизия не успели закончить сосредоточение в заданном районе) [5; 134-135], [25; 145].
В то же время на левом фланге армии, в районе стыка с 38-й армией К.С. Москаленко, 14 мая стало складываться кризисное положение – немцы усиливали удар в стык двух армий. Оборонявшая этот участок 13-я гв. сд (Родимцева) 28-й армии оказалась в довольно тяжёлой ситуации. Поддерживала дивизию 90 тбр подполковника М.И. Малышева, но она понесла серьёзные потери ещё в боях 12-13 мая. Бои с немецкими танками 14 мая окончательно обескровили эту бригаду. Поэтому штаб ЮЗФ перебросил на угрожаемый участок 57 тбр генерал-майора В.М. Алексеева. В этом же районе действовала 6-я гвардейская танковая бригада подполковника М.К. Скубы [5; 130, 135, 137], [32; 196-197]. Благодаря переброске подкреплений дивизия Родимцева удержала свои позиции. Стык 28-й и 38-й армий оказался немцам «не по зубам».
Это обстоятельство, а также довольно успешное продвижение правофланговых дивизий 28-й армии заставили немцев изменить направление своего удара – отказавшись от наступления на Старый Салтов (на восток), они обеими танковыми дивизиями ударили на Весёлое (на север), где советские войска ещё успешно наступали [5; 135].
В целом, к концу дня 14 мая результаты боёв на северном участке советского наступления выглядели не так уж и плохо: общий фронт прорыва составил здесь 56 км. Войска, действовавшие в центре этой группы (т.е. соединения 28-й армии), продвинулись в глубину обороны гитлеровцев на 20-25 километров и уже видели трубы харьковских заводов [2; 95-96].
На юге в этот день 6-я армия Городнянского продолжала продвижение к Харькову и находилась от него не более чем в 35-40 километрах [2; 96-97], [25; 145]. Группа генерала Бобкина успешно развивала наступление на Красноград. Правда, необходимо отметить, что сопротивление противника в полосе 6-й армии стало усиливаться, т.к. немцы перебрасывали на участок её прорыва подкрепления, которые успевали занимать оборонительные рубежи. Этого могло не случиться, если бы командование ЮЗФ-ЮЗН ввело 13-14 мая в прорыв 21-й и 23-й танковые корпуса, которые своим продвижением воспрепятствовали бы закреплению немцев на тыловых оборонительных позициях.
Как уже отмечалось, 15 мая противник изменил направление наступления 3-й и 23-й танковых дивизий с восточного на северное. Мощный удар обрушился на 13 гв. сд Родимцева 28-й армии, правый фланг которой стоял на пути этого движения. Но прорваться сквозь расположение гвардейцев немцам не удалось. После ожесточённых столкновений они вывели свои танки из боя и, пройдя несколько на запад, снова развернулись на север. На сей раз удар был нацелен на село Весёлое, где проходил стык полос наступления 21-й и 28-й армий. Цель этого удара – воспрепятствовать успешному наступлению 28-й армии.
В районе Весёлого 15 мая находились 169 сд с 84 тбр 28-й армии и 227 сд с 10 тбр 21-й армии [5; 142]. Сопротивление указанных советских соединений заставило немцев приостановить наступление к югу от этого населённого пункта [5; 144].
В то же время в течение дня 15 мая противник продолжал наносить удары в стык 38-й и 28-й армий и по левому флангу 28-й армии. И если правый фланг 38-й армии и 13 гв. сд 28-й армии свои позиции отстояли, то сосед последней справа – 244 сд 28-й армии, под немецким натиском подался назад. Это сразу же осложнило положение советских войск как слева, так и справа от 244 сд [9; 40].
Соединения правого фланга 28-й армии в этот день продвинулись вперёд на 5 километров, вышли к реке Липец и здесь из-за проблем соединений центра, левого фланга армии и стыка с 21-й армией остановились [9; 40].
Войска 21-й армии с утра 15 мая приступили к выполнению наступательных задач, но, встретив сильное сопротивление противника, а также по причине удара группировок 3-й и 23-й танковых армий на Весёлое, успеха не имели [9; 38].
На южном участке советского наступления продвижению 6-й армии и группы генерала Бобкина очень сильно препятствовала авиация противника, господствовавшая в воздухе. В течение всего дня немецкие самолёты, действуя большими группами, наносили значительный урон нашим войскам. Тем не менее дивизии 6-й армии, наступавшие на главном направлении (266 и 411 сд), во второй половине дня вышли на реку Берестовая. Правофланговые дивизии (47-я и 253-я) в это же время достигли рек Северский Донец и Сухая Гомольша.
Значительных успехов достигла группа генерала Бобкина. К исходу дня 6-й кавалерийский корпус генерал-майора А.А. Носкова и 7-я танковая бригада полковника И.А. Юрченко вышли на ближние подступы к Краснограду с востока, а 393-я и 270-я стрелковые дивизии перерезали железную дорогу Красноград – Лозовая [9; 46], [5; 214-215].
Приходится полагать, что появление советских подвижных соединений 15 мая под Красноградом, находящимся значительно юго-западнее Харькова, произвело на немцев сильное впечатление. Успехи 6 кк и 7 тбр, очевидно, даже в официальных немецких донесениях были преувеличены, и из этих донесений потом «перекочевали» в истории ряда соединений вермахта, принимавших участие в Харьковском сражении. Так, в истории 71-й пехотной дивизии, которая, правда, сражалась не против группы Бобкина, а к северо-востоку от Харькова, появилась такая запись:
«15 мая были потеряны Красноград и Тарановка (к юго-востоку от Полтавы). Почти беспрепятственно советские танки шли на запад…» [5; 99-100].
Конечно, утверждение о потере немцами Краснограда не соответствует действительности, увы. Этот город, за который части 6 кк и 7 тбр завязали бои ещё вечером 15 мая, так и не был ими взят.
Таким образом, войска южной ударной группировки уже во второй половине дня 15 мая создали условия для ввода в прорыв 21-го и 23-го танковых корпусов, даже с учётом плана командования Юго-Западного фронта вводить корпуса в бой только по достижении наступающими соединениями реки Берестовая. Подчеркнём это особо, т.к. решение о вводе в бой подвижной группы командование ЮЗФ приняло, наконец, только более чем сутки спустя (вечером 16 мая) [25; 145]. И связано это было не с тем, что пехота не могла до Берестовой добраться раньше. Как мы видели, к реке она вышла ещё во второй половине дня 15 мая. Но дело было в том, что в это время танковые корпуса находились от района боевых действий в 25-35 км, и их выдвижение к месту прорыва тормозилось действиями немецкой авиации.
По результатам боёв с 12 по 15 мая включительно командование Юго-Западного направления в ночь с 15 на 16 мая направило в Ставку ВГК доклад. И.Х. Баграмян в своих воспоминаниях датирует этот доклад ночью с 14 на 15 мая [2; 97]. Но даже сам текст документа, в котором дважды есть ссылка на состояние дел «к исходу 15 мая», говорит о том, что бывший начальник штаба ЮЗН в мемуарах допустил ошибку [5; 436-438].
Донесение констатировало несомненный успех первых четырёх дней нашего наступления, отмечало упорное сопротивление и контрудары немцев против северной группировки советских армий, говорило о возникших в связи с этими контрударами проблемах. Для нейтрализации действий немецких танковых группировок на «севере» и успешного развития наступления там командование ЮЗН просило о срочном выделении резервов: четырёх танковых бригад и двух стрелковых дивизий [5; 436-437].
Две стрелковые дивизии просились и для развития удара левого крыла фронта (т.е. войск, наступавших из Барвенковского выступа) [5; 438].
В целом же тон документа был весьма оптимистичный. Так, в нём говорилось, «что до сего времени противник не разгадал замысла нашей операции и свой основной ударный кулак направил на второстепенный участок фронта и этим предоставил свободу действий нашим ударным группировкам.
Для нас теперь совершенно ясно, что противник, сосредоточив в Харьков[е] две полнокровные тд, вероятно, готовился к наступлению в направлении Купянск, и что нам удалось сорвать это наступление в процессе его подготовки.
Очевидно также, что сейчас противник в районе Харьков не располагает такими силами, чтобы развернуть против нас встречное наступление» [5; 437-438].
Как видим, командование Юго-Западного направления, в целом правильно констатировав, что действия 21, 28 и 38-й армий сорвали план немецкого наступления из района Харькова, в ночь на 16 мая так и не видело никакой угрозы со стороны войск противника, сосредотачивающихся против южного фаса Барвенковского выступа. Прося резервы для северной и южной ударных группировок, оно и словом не упомянуло об усилении «жиденьких» оборонительных порядков 9-й и 57-й армий.
По приказу командующего Юго-Западным фронтом, 16 мая 21-я армия должна была выполнять поставленные ранее задачи, т.е. продолжать наступление (к рубежу Маслова Пристань, Черемошное), обеспечивающее с севера действия 28-й армии. Сама 28-я армия получила задачу своим правым флангом закрепиться на достигнутых рубежах, а соединениями левого фланга (244 и 13 гв. сд) разгромить противника, вклинившегося в стык между ними, и восстановить положение. Для усиления левого фланга армии командарму-28 передавалась одна стрелковая дивизия (162 сд) 38-й армии (в предыдущие дни эта дивизия, наоборот, была передана из 28-й в 38-ю армию). Подвижная группа 28-й армии (3-й гвардейский кавалерийский корпус) должна была к утру 16 мая продвинуться на 10-12 км и сосредоточиться за смежными флангами 21-й и 28-й армий. 38-я армия получила задачу прочно оборонять занимаемые ею рубежи [9; 40-41].
Однако немцы в течение дня 15 мая и в ночь на 16-е продолжали сосредотачивать дополнительные силы перед фронтом 21-й армии. В ночь на 16 мая ими были также сняты с фронта 38-й армии и переброшены в район стыка 28-й и 21-й армий, т.е. к селу Весёлому, до 50 танков с пехотой [9; 41].



