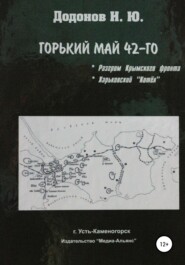 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
Барвенковский выступ обладал, тем не менее, «повышенным процентом риска» именно для Красной Армии. И причиной этого было крайне незначительное по протяжённости его устье (75-80 км). Немцы, учитывая их танковый потенциал и умение проводить операции на окружение противника, имели большие возможности к перекрытию устья Барвенковского плацдарма, т.е., другими словами, к окружению находящихся там советских войск. Недаром и начальник Генштаба РККА Б.М. Шапошников, и начальник Оперативного управления Генштаба А.М. Василевский иначе как оперативным «мешком» этот выступ и не называли [6; 211].
Справедливости ради надо заметить, что и от главнокомандования Юго-Западного направления (командующий – маршал С.К. Тимошенко, начальник штаба – генерал-лейтенант И.Х. Баграмян, член Военного совета – Н.С. Хрущёв) данное обстоятельство не ускользнуло.
Поэтому в марте 1942 года началась ещё одна Харьковская наступательная операция, проводимая командованием ЮЗН как две частные операции:
– 7 марта в наступление перешли 6-я и 38-я армии Юго-Западного фронта, которые должны были разгромить чугуевско-балаклеевскую группу войск противника и освободить Харьков;
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ КАРТА №1. ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ. МАЙ 1942 ГОДА.
– 12 марта в наступление перешла 9-я армия и оперативная группа А.А. Гречко Южного фронта с целью разгромить славянско-краматорскую группу немецких войск.
Интенсивные, с большими потерями бои продолжались весь март и первую декаду апреля. Но ни Харьков не был нашими войсками освобождён, ни горло Барвенковского оперативного «мешка» расширено.
И январская, и мартовско-апрельская Харьковские наступательные операции дорого стоили войскам Юго-Западного направления. Так, согласно докладу командования ЮЗН в Ставку ВГК № 00137/ОП от 22.03.1942 г., войска ЮЗН в январе-марте теряли ежемесячно в среднем по 110-130 тысяч человек. В результате, к 20 числам марта некомплект личного состава только в стрелковых соединениях составил 370 888 человек, что равнялось 46% штатной численности [5; 8, 424], [27; 2]. А ведь в тот момент ещё шли кровопролитные бои второй Харьковской наступательной операции.
Отметим для себя последнее обстоятельство – перед нами, как представляется, одна из причин грядущей майской трагедии.
В таких условиях главнокомандование Юго-Западного направления вышло в Ставку ВГК с предложением о проведении силами Брянского, Юго- Западного и Южного фронтов большой наступательной операции уже в мае 1942 года. Собственно, тот доклад, на который мы ссылались чуть выше, и содержал это предложение.
«По всем признакам, – говорилось в нём, – весна должна ознаменоваться возобновлением широких наступательных действий со стороны противника.
Независимо от этого войска Юго-Западного направления в период весенне-летней кампании должны стремиться к достижению основной стратегической цели – разгромить противостоящие силы противника и выйти на средний Днепр (Гомель, Киев, Черкассы) и далее на фронт Черкассы, Первомайск, Николаев…» [5; 423].
Если взглянуть на карту, то становится ясно, что, несмотря на значительные потери и измот своих войск, главнокомандование Юго-Западного направления предполагало в весенне-летней кампании 1942 года овладеть буквально половиной территории Украины. Для осуществления поставленной цели оно предлагало Ставке максимально быстро пополнить войска ЮЗН личным составом и матчастью, передать в распоряжение главнокомандования ЮЗН новые значительные резервы. В свою очередь, оно предполагало до начала большой наступательной операции успешно закончить ряд частных наступательных операций, а также выявить районы сосредоточения крупных группировок противника для наступления и активными действиями попытаться сорвать это сосредоточение [5; 423-424].
Как отнеслись к подобным планам в Ставке Верховного Главнокомандования и Генштабе? Предоставим слово А.М. Василевскому:
«Из чего исходила Ставка, разрабатывая план летней кампании? Враг был отброшен от Москвы, но он всё ещё продолжал угрожать ей. Причём, наиболее крупная группировка немецких войск (более 70 дивизий) находилась на московском направлении. Это давало Ставке и Генштабу основания полагать, что с началом летнего периода противник попытается нанести нам решительный удар именно на Центральном направлении. Это мнение, как мне хорошо известно, разделяло и командование большинства фронтов (в том числе, и командование ЮЗН, как это явствует из его доклада от 22.03.1942 г. [5; 418] – И.Д.).
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, не считая возможным развернуть в начале лета крупные наступательные операции, был также за активную стратегическую оборону. Но наряду с ней он полагал целесообразным провести частные наступательные операции в Крыму, в районе Харькова (выделено нами – И.Д.), на льговско-курском и смоленском направлениях, а также в районах Ленинграда и Демянска. Начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников стоял на том, чтобы не переходить к широким контрнаступательным действиям до лета. Г.К. Жуков, поддерживая, в основном, Шапошникова, считал в то же время крайне необходимым разгромить в начале лета ржевско-вяземскую группировку врага.
К середине марта Генеральный штаб завершил все обоснования и расчёты по плану операций на весну и начало лета 1942 года. Главная идея плана: активная стратегическая оборона, накопление резервов, а затем переход в решительное наступление. В моём присутствии Б.М. Шапошников доложил план Верховному Главнокомандующему, затем работа над планом продолжалась. Ставка вновь обстоятельно занималась им в связи с предложением командования Юго-Западного направления провести в мае большую наступательную операцию силами Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов. В результате И.В. Сталин согласился с предложением и выводами начальника Генерального штаба. В то же время было принято решение: одновременно с переходом к стратегической обороне предусмотреть проведение на ряде направлений частных наступательных операций, что, по мнению Верховного Главнокомандующего, должно было закрепить успехи зимней кампании, улучшить оперативное положение наших войск, удержать стратегическую инициативу и сорвать мероприятия гитлеровцев по подготовке нового наступления летом 1942 года… Предполагалось, что всё это в целом создаст благоприятные условия для развёртывания летом ещё более значительных наступательных операций Красной Армии на всём фронте от Балтики до Чёрного моря» [6; 205-206].
И далее: «…Командование направления (Юго-Западного – И.Д.) просило у Ставки дополнительных значительных сил и средств (для проведения большой наступательной операции – И.Д.). Тогда же Генштаб доложил Верховному Главнокомандующему, что не согласен с этим предложением. И.В. Сталин одобрил наше решение, но в то же время дал С.К. Тимошенко согласие на разработку частной, более узкой, чем тот намечал, операции с целью разгрома харьковской группировки врага наличными силами и средствами Юго-Западного направления (выделено нами – И.Д.).
Этот переработанный план 10 апреля был направлен в Ставку… Б.М. Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного фронта… внёс предложение воздержаться от её проведения. Однако командование направления продолжало настаивать на своём предложении и заверило Сталина в полном успехе операции. Он дал разрешение на её проведение и приказал Генштабу считать операцию внутренним делом направления, и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться» [6; 211-212].
Схожим образом рисует дискуссии конца марта – первой половины апреля 1942 года в ГКО по поводу планов на весенне-летнюю кампанию Г.К. Жуков [14; 57-59].
Хотелось бы отметить, что причинами неудач весенне-летней кампании 42-го года, в которой харьковские события явились лишь одним из моментов, оба прославленных советских полководца считают два обстоятельства:
1) Неверное определение направления основного удара вермахта весной-летом 42-го года [6; 206], [14; 58-59].
2) Распыление сил в многочисленных частных наступательных операциях [6; 206], [14; 58-59].
Так подробно мы остановились на воспоминаниях А.М. Василевского и Г.К. Жукова неспроста. Это связано со столь любимым в русской истории вопросом «Кто виноват?» в приложении к трагедии под Харьковом.
Со времён правления Н.С. Хрущёва у нас вообще во всех неудачах в ходе Великой Отечественной войны был виноват И.В. Сталин, в том числе и в Харьковском разгроме. Сейчас очень ярко проявилась и другая тенденция: «всех собак вешают» на командование Юго-Западного направления, т.е. на С.К. Тимошенко, И.Х. Баграмяна и Н.С. Хрущёва. Кто-то именует их попросту бездарями, из-за своей военной бездарности провалившими успешно начатую наступательную операцию, а кто-то – даже предателями и изменниками, злоумышленно сотворившими «жуткую трагедию Харьковского «котла»» [27; 6]. «Записные» же наши «демократы» «кроют» почём зря советскую систему как таковую: мол, при ней ничего другого и быть не могло, ибо все «коммуняки» были «дубы» и «садисты», мешали народу жить и воевать, а немцы не победили в войне только потому, что в России дороги были плохие (потому что их «коммуняки» не проложили по своим «дубовости» и «зловредной сущности») и погода – совсем нехорошая (её, видимо, тоже «коммуняки» подпортили; при царе-батюшке она, видимо, куда как лучше была).
Последнюю версию мы рассматривать не будем, вследствие полной её «дубовости», являющейся прямым следствием полной «дубовости» её создателей.
В серьёзном же ключе о причинах харьковской трагедии поговорить стоит.
И тут, прежде всего, хотелось бы отметить, что причины эти надо искать в двух плоскостях, точнее, – на двух уровнях.
Во-первых, на уровне планирования данной наступательной операции.
Во-вторых, на уровне её претворения в жизнь, т.е. на оперативном уровне.
Собственно вопросы планирования уже и начали рассматриваться.
При этом стоит обратить внимание на ещё одно место из доклада командования ЮЗН № 00137/ОП от 22.03.1942 г.:
«…На юге следует ожидать наступления крупных сил противника между р. Сев[ерский] Донец и Таганрогским заливом с целью овладения низовьем Дона и последующим устремлением на Кавказ к источникам нефти. Этот удар, вероятно, будет сопровождаться наступлением вспомогательной группировки войск на Сталинград и десантными операциями из Крыма на Кавказское побережье Чёрного моря» [5; 418].
Теперь сравним этот текст с выдержкой из немецкой директивы № 41, в которой фюрер и ОКВ ставили задачи войскам на весенне-летнюю кампанию:
«…в первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет» [5; 383].
При этом директива указывала, что для центрального участка фронта с Советами задачей является сохранение существующего положения [5; 383].
Как можно видеть, командование Юго-Западного направления, в отличие от Ставки и Генштаба, предвидело возможность удара немцев на Кавказ и Сталинград. Правда, оно считало, что этот удар будет проведён одновременно с ударом на Центральном направлении, т.е. на Москву. И тут оно ошибалось. Для одновременных крупномасштабных наступательных действий на двух стратегических направлениях сил у немцев в 1942 году уже не было. Но это мы знаем сейчас. А в то время было важно то, что главное направление удара противника (пусть и как одно из двух главных) было определено.
Справедливости ради надо отметить, что и сам Верховный в начале дискуссий относительно планов на весенне-летнюю кампанию придерживался мнения о возможности проведения вермахтом наступления сразу по двум стратегическим направлениям – в центре и на юге. Но затем он от этого мнения отказался в пользу одного направления – Центрального. Во всяком случае, что дело обстояло именно так, свидетельствует в своих мемуарах Г.К. Жуков [14; 57].
Итак, в том, что «точка приложения» главных усилий вермахта была определена неверно, вины командования Юго-Западного направления не было. То, что предлагалось им в докладе от 22 марта 1942 года, можно считать попыткой не дать немцам перехватить у нас инициативу действий на юге, не позволить им навязать нам «свои правила игры», а, наоборот, навязать им свою волю, заставить реагировать на наши наступательные операции, парировать наши удары и, тем самым, разрушить немецкие планы на весенне-летнюю кампанию.
Что могло получиться, прими Ставка ВГК предложение командования ЮЗН, – можно только гадать. Работы на общую тему «Альтернативы Великой Отечественной» сейчас весьма популярны. Правда, затрагивают они, как правило, только 1941 год. Но интересно бы было предложить историкам проиграть в ключе сослагательного наклонения данную ситуацию. Однако темой нашего очерка это не является. Поэтому продолжим рассмотрение реальных, а не виртуальных событий.
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», – сказал великий грузинский поэт Шота Руставели. Сейчас мы видим события весны 1942 года не просто со стороны, а на 70-летнем временном удалении. И расставлять знаки «плюс» и «минус» тем или иным действиям советского командования теперь относительно легко. «Легко быть умным задним умом». И потому автор очерка не склонен к вынесению категоричных приговоров, тем более с патетическим осуждением. Словом, в очерке не ставится цель кого-то заклеймить, а просто делается попытка разобраться в причинах трагедии.
Так, говоря, что главнокомандование ЮЗН ни в малой степени не виновно в ошибке с определением направления главного удара немцев весной-летом 1942 года, никто не собирается начинать гневно порицать Ставку ВГК и Генштаб: вот, мол, де, из-за них-то всё и произошло. Нам вообще совершенно не нравится та рьяность в обвинениях, которую сейчас часто проявляют молодые исследователи, безусловно, научившись этому у ряда не очень молодых историков (уж что-что, а клеймить у нас всегда умели на славу). Хочется сказать в ответ: «Вот ты бы тогда покомандовал. А я бы посмотрел, чего ты там накомандуешь…»
Да, и Ставка, и Генштаб ошиблись. И от этой ошибки никто из людей, находящихся в то время во главе РККА, открещиваться не стал. Её в своих мемуарах признали и Г.К. Жуков, и А.М. Василевский. Но какова причина ошибки?
Вопрос определения направления главного удара противника вообще очень сложен. Для его решения привлекаются разведданные, которые подвергаются осмыслению, анализу, в результате чего делаются определённые выводы. Однако надо понимать, что и данные разведки не бывают однозначны, и оценивать одни и те же данные можно по-разному (причём, противоречащие друг другу оценки будут логически вполне обоснованны).
Вот, скажем, А.М. Василевский в мемуарах повинился:
«Обоснованные данные нашей разведки о подготовке главного удара врага на юге не были учтены» [6; 206].
Но это было сказано им спустя многие годы после войны. Тогда же, в начале весны 42-го, всё столь очевидным не казалось.
Какими разведданными располагала Ставка и какими – командование ЮЗН? Почему оценка намерений противника у них оказалась разной?
Помимо сведений фронтовой разведки, а также информации, которая поступала от партизан и агентурной сети «с той стороны» фронта, наши высшие военные располагали данными, полученными из оккупированной Европы. Эти последние были предоставлены членом «Красной Капеллы» Леопольдом Треппером и говорили о планах Гитлера провести в 1942 году крупную наступательную операцию именно на Юге России [21; 5]. «Однако Сталин не поверил одному из лучших советских разведчиков», – тут же «клеймит» Верховного Главнокомандующего кандидат исторических наук В. Казак, автор статьи «Харьковский «котёл»» [21; 5].
Но ведь, как уже было показано, Сталин не просто «не поверил». Он рассматривал эту возможность, но счёл её менее вероятной, чем другую – главное наступление немцев на Центральном направлении. И для этого у него были основания: другие разведданные. Но прежде, чем мы поговорим о них, ещё несколько слов о донесениях «Красной Капеллы»
Судя по всему, именно на них и основывалось командование Юго-Западного направления, разрабатывая свой план на весенне-летнюю кампанию 1942 года, изложенный в докладе № 00137/ОП от 22.03.1942 г. в Ставку ВГК.
Откуда командование ЮЗН могло располагать такой информацией? Ведь её получение «напрямую» от агентурной сети в Западной Европе исключается. Напрямую эта информация могла поступать либо в ГРУ, либо в ГУГБ НКВД. Но вот о чём повествует А. Мартиросян в Интернет-статье «Харьковский «котёл». Трагедия по вине Хрущёва и Тимошенко»:
«…в начале марта 1942 года в Москву с фронта прилетел однокашник Самохина по академии, начальник оперативной группы Юго-Западного направления генерал-лейтенант Иван Христофорович Баграмян (впоследствии Маршал Советского Союза). Баграмян, естественно, посетил ГРУ и от своего знакомого – Александра Георгиевича Самохина, являвшегося уже начальником 2-го Управления ГРУ, узнал разведданные о планах гитлеровцев на лето 1942 года. Вернувшись на фронт, Баграмян поделился этой информацией с Тимошенко и Хрущёвым – ведь они были его прямыми начальниками» [27; 1-2].
Видимо, так или примерно так и обстояло дело. Этим и объясняется «прозорливость» С.К. Тимошенко, И.Х. Баграмяна и Н.С. Хрущёва.
Но «упёртость» Сталина и руководства Генштаба объясняется не их нежеланием «посмотреть правде в глаза», а, и об этом говорилось выше, другой группой разведывательных данных.
Главнокомандование знало и от фронтовой разведки, и от разведки непосредственно за линией фронта, что гитлеровцы сосредоточили на Центральном направлении до 70 дивизий. И данная оценка не была ошибочной. В самом деле, такое количество дивизий на Московском направлении у немцев имелось. Чтобы читателю было понятно – много это или мало, приведём следующие цифры. На центральном участке фронта немцы сосредоточили 28,3% пехотных и 38,8% танковых и моторизованных дивизий. На юго-западе, где разыгрались главные события, было 35% пехотных и 53,7% танковых и моторизованных соединений. И, наконец, в северном секторе фронта находились 21,5% пехотных и всего 6% танковых из всех соединений противника на Восточном фронте. Плюс – у немцев 7,8% войск находилось в Крыму [20; 16]. Хорошо видно, что группировка немцев на Московском направлении была значительной. Командование РККА вполне могло ожидать именно здесь основного удара германцев. Конечно, подсчитать процентное соотношение сил между направлениями оно тогда не имело возможности. Но сосредоточение сил противника на центральном участке фронта от его внимания не ускользнуло. Тем более что немцы усиленно указанное сосредоточение нам демонстрировали, в то время как на юге они его тщательно маскировали. Всё это явилось частью дезинформационной акции под кодовым названием «Кремль» [20; 15]. Не приходится сомневаться, что в рамках данной акции не только имитировалась активность на Московском направлении, но и имел место вброс дезинформации через нашу разведсеть в Западной Европе. Немцы были асами на такого рода «проделки». Достаточно вспомнить дезинформационную атаку на советское руководство накануне вторжения в СССР, которая великолепно удалась, – до самого последнего момента наши лидеры не смогли разгадать намерений гитлеровцев.
Вот почему и Сталин, и Жуков, и Генштаб в лице Шапошникова и Василевского не вняли ни предупреждениям «Красной Капеллы», ни планам командования ЮЗН. Верховный и работники Генштаба ошиблись. Но к этому были весьма весомые предпосылки. И, думается, не стоит гневно сдвигать брови и начинать обличать Верховное советское командование. На войне как на войне. Всегда кто-то кого-то «переигрывает». Для наиболее гневных обличителей, считающих наше командование «абсолютно негибким» (читай – неумным, тупым), скажем, что оно (это наше «абсолютно негибкое» командование) проделало с «умнейшими» генералами вермахта такую же «штуку» уже осенью 1942 года. Усиленно демонстрируя немцам сосредоточение войск для операции «Марс» против Ржевского выступа на центральном участке советско-германского фронта, мы скрытно накопили силы для контрудара под Сталинградом (и его противник совершенно не ожидал). При этом немцам была «слита» и ложная информация по линии агентурной разведки (через двойного агента Александра Демьянова («Гейне», известен немецкой разведке как «Макс») [12; 132]; «по мотивам» этой разведывательной игры снят известный фильм «Вариант «Омега»» с Олегом Далем в главной роли), и она сыграла большую роль в том, что немцы не разгадали планов советской стороны.
Итак, предложение командования ЮЗН о большом наступлении на юге было отклонено. Но Сталин не собирался просто пассивно обороняться и выпустить инициативу из своих рук. И Г.К. Жуков, и А.М. Василевский в один голос утверждают, что активную оборону он понимал несколько иначе, чем Б.М. Шапошников. Последний, по-видимому, считал, что активность должна проявляться, максимум, в боях местного значения. Сталин же полагал, что активная оборона – это оборона с проведением локальных наступательных операций на отдельных участках фронта. В числе таких операций Верховный числил и наступление в районе Харькова. Поэтому, отклонив при полной поддержке Генерального штаба план командования ЮЗН на проведение большого наступления на юге, Сталин дал добро на проведение наступления меньшего масштаба, в котором С.К. Тимошенко действовал бы, практически, наличными силами войск своего направления, без особого усиления и передачи больших масс подкреплений.
Вот она ошибка и Верховного, и командования Юго-Западного направления. Даже для проведения наступательной операции с ограниченными (в сравнении с первоначальным планом) целями у Юго-Западного и Южного фронтов сил было недостаточно. Однако об этом подробнее будет рассказано ниже.
Новый план наступательной операции, предоставленный Ставке ВГК, содержался в документе от 10 апреля 1942 года, озаглавленном «План операции войск Юго-Западного направления по овладению районом Харьков и дальнейшему наступлению в направлениях Днепропетровск, Синельниково». Начинался он следующими словами:
«1. В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главного Командования, для упреждения противника в развёртывании наступательных операций и сохранения инициативы в руках наших войск перед Юго-Западным направлением на период апрель-май ставится следующая основная цель: овладеть районом Харьков, произвести перегруппировку войск и последующим ударом в направлении Днепропетровск, ст. Синельниково лишить противника важнейших переправ на Днепре.
Частными целями для фронтов является: для Юго-Западного фронта – разгром харьковской группировки противника и выход на линию Никитовка, Карловка, Бузовка для обеспечения последующих действий войск Южного фронта в направлении Днепропетровск; для Южного фронта – прочная оборона занимаемых рубежей и прикрытие ростовского, ворошиловградского направлений и района Барвенково, Славянск, Изюм.
2. Для достижения поставленных целей основным замыслом в действиях Юго-Западного фронта является: охватывающим ударом 6А с юга и 28А с севера окружить и уничтожить харьковскую группировку противника, выйти на указанный рубеж и создать выгодное исходное положение для перегруппировки к последующему удару на Днепропетровск и ст. Синельниково.
Основной замысел действий Южного фронта состоит в создании глубокой эшелонированной обороны (выделено нами – И.Д.) на важнейших направлениях и ведении активной обороны для сковывания сил противостоящего противника» [5; 425-426].
Далее в плане намечались этапы операции:
I этап – подготовительный. В ходе него создавалась необходимая для наступления группировка сил. Причём Южный фронт отдавал часть своих соединений Юго-Западному фронту [5; 426].
На II этапе, занимающем 6-7 дней, осуществлялся прорыв обороны противника, ввод в прорыв подвижных соединений ЮЗФ. Глубина операции основных сил – 30-35 км [5; 426-427].
На III этапе за 7-8 дней завершались окружение и разгром харьковской группировки противника. Глубина этапа операции – 40-45 км [5; 427].
Для достижения указанных целей планом предусматривалась следующая группировка войск ЮЗН:
«Юго-Западный фронт:
21А (в составе 8 мсд, 293, 297, 226 и 76 сд, 21 мсбр, 10 тбр, 8 отб, 338 и 105 лап РГК, 110 гап РГК и 156 арм. ап 2-го типа) развёртывается на фронте: Марино, Шахово, Шебекино (105 км)… для наступления с целью обеспечения правого фланга 28А.
Задачи армии: наступая левым флангом, к исходу шестого дня выйти на рубеж: Крейда, Нелидовка, Толоконное, перерезать передовыми частями шоссе Белгород, Харьков и обеспечить правый фланг 28А. К исходу четырнадцатого дня наступления овладеть районом Белгород… закрепиться и прикрыть действия 28А от ударов противника с севера и северо-запада.



