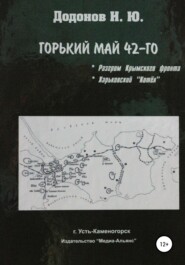 Полная версия
Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
Тт. Козлов и Мехлис считали, что главная их задача состоит в отдаче приказа и что изданием приказа заканчивается их обязанность по руководству войсками. Они не поняли того, что издание приказа является только началом работы, и что главная задача командования состоит в обеспечении выполнения приказа, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам по выполнению приказа командования.
Как показал разбор хода операции, командование фронта отдавало свои приказы без учёта обстановки на фронте, не зная истинного положения войск. Командование фронта не обеспечило даже доставки своих приказов в армии, как это имело место с приказом для 51-й армии о прикрытии ею отвода всех сил фронта за Турецкий вал, – приказа, который не был доставлен командарму. В критические дни операции командование Крымского фронта и тов. Мехлис, вместо личного общения с командующими армиями и вместо личного воздействия на ход операции, проводили время на многочасовых бесплодных заседаниях Военного совета.
III
Третья причина неуспехов на Керченском полуострове заключается в недисциплинированности тт. Козлова и Мехлиса. Как уже отмечалось выше, тт. Козлов и Мехлис нарушили указание Ставки и не обеспечили его выполнения, не обеспечили своевременный отвод войск на Турецкий вал. Опоздание на два дня с отводом войск явилось гибельным для исхода всей операции» [32; 236-238].
Весьма полный и в основном верный перечень причин поражения Крымского фронта в мае 1942 года. Но всё-таки хотелось бы сделать некоторые дополнения и уточнения.
1) Проблемы массированного использования авиации, взаимодействия её с наземными войсками стояли тогда не только перед Крымским фронтом, но и перед всей РККА. Организационная структура советских ВВС (их дробление на фронтовые и армейские) приводила к децентрализации управления авиацией в боевых условиях. Поэтому наши военно-воздушные силы на тот момент и проигрывали единоборство немцам с их централизованной структурой ВВС в виде воздушных флотов. Этот недочёт советское Верховное Главнокомандование осознало. Как раз в мае 1942 года начали создаваться воздушные армии – аналог германских воздушных флотов [4; 203]. В июне 1942 года в составе Красной Армии было 8 воздушных армий [10; 55]. Но вся беда в том, что данные мероприятия уже никак не могли повлиять на ход событий в Крыму (да и под Харьковом, кстати, тоже).
2) Как мы показали выше, утверждение о задержке с исполнением приказа Ставки на двое суток является преувеличением. Передача приказа была задержана лишь до вечера 10 мая. 47-я армия начала отступление в этот же вечер. Но из-за потери связи с 51-й армией командование последней, судя по всему, этого приказа совсем не получило. В любом случае, даже если о двух сутках речь вести не приходится, имевшая место задержка с передачей приказа сыграла свою роковую роль.
3) На наш взгляд, одной из причин столь сокрушительного поражения Крымского фронта явилось решение о проведении контрудара силами 51-й армии, отменившее принятое ранее решение о контрударе силами 44-й армии. Это решение привело к хаосу и перемешиванию наших войск, которые, в итоге, не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. Собственно, в частности, и об этом говорилось в вышеприведённой директиве Ставки, когда указывалось на то, что командование Крымфронта «отдавало свои приказы без учёта обстановки на фронте, не зная истинного положения войск» [32; 238].
С виновностью командования Крымского фронта всё ясно. Но лежит ли какая-нибудь вина на Ставке ВГК? Современный российский историк Б.И. Невзоров видит вину Ставки в том, что она отдавала противоречивые приказы – то обороняться, то наступать. Мол, это и привело к тому, что к обороне Крымфронт оказался абсолютно не готов [27; 8].
С таким утверждением нельзя согласиться. Полагаем, что оно представляет собой «передёргивание» фактов. В своих приказах Ставка была очень последовательна, что мы и попытались показать выше.
Определённую степень вины Ставки можно усмотреть в том, что своими распоряжениями она создала предпосылки того однолинейного построения всех трёх армий фронта с сосредоточением основных сил на правом фланге, которое оказалось для фронта роковым. Но нельзя при этом не видеть, что когда Ставка ВГК в директиве № 170071 от 28 января требовала сосредоточения 47-й армии ближе к переднему краю и усиления правого крыла фронта, она поступала вполне логично. В дальнейшем командование Крымского фронта должно было творчески осмысливать ситуацию. Оно и осмыслило, переведя 47-ю армию из-за стыка 44-й и 51-й армий вообще в переднюю линию для обеспечения успеха наступления. И это тоже было вполне логично. Но вот прекратив наступательные действия 12 апреля, командование фронта не озаботилось отведением 47-й армии во вторую линию. И это уже никакой логикой объяснить нельзя. Это была ошибка, это было пренебрежение созданием необходимых оборонительных рубежей и нужных для обороны резервов. В данной ситуации Ставку можно обвинить только в том, что её контроль за деятельностью командования Крымфронта был недостаточным.
* * *
Директива Ставки ВГК № 155452 от 4 июня 1942 года определила и наказания для лиц командного состава Крымского фронта, названных виновниками его поражения.
Л.З. Мехлис был снят с постов заместителя народного комиссара обороны и начальника Главного политического управления РККА и снижен в звании до корпусного комиссара. Впоследствии Лев Захарович занимал должности члена Военного совета 6-й резервной армии, Воронежского, Волховского и ряда других фронтов. Участвовал в оборонительных боях летом и осенью 1942 года, в прорыве блокады Ленинграда, сражении на Курской дуге, Белорусской стратегической наступательной операции. Войну закончил в звании генерал-полковника на должности члена Военного совета 4-го Украинского фронта [32; 238], [11; 282], [26; 375-376].
Генерал-лейтенант Д.Т. Козлов был снят с поста командующего фронтом и понижен в звании до генерал-майора [32; 238]. О дальнейших этапах его биографии мы уже говорили.
Дивизионный комиссар Ф.А. Шаманин, будучи снят с поста члена Военного совета фронта, понижался в звании до бригадного комиссара [32; 238].
Генерал-майор П.П. Вечный был единственным, кто расстался со своей должностью (начальник штаба фронта) без понижения в звании [32; 238].
Генерал-лейтенант С.И. Черняк и генерал-майор К.С. Колганов были сняты с постов командующих армиями и понижены в звании до полковников [32; 238]. С.И. Черняк вернул себе звание 3 июля 1944 года и до конца войны не поднимался выше командира дивизии. К.С. Колганов осенью 1943 года стал генерал-лейтенантом и до конца войны командовал стрелковым корпусом [11; 283].
Генерал-майор авиации Е.М. Николаенко был снят с поста командующего ВВС фронта и понижен в звании до полковника [32; 238].
* * *
Последствиями нашего поражения на Керченском полуострове в мае 1942 года были не только большие потери Крымского фронта и утрата территории полуострова. Это поражение привело к тому, что героически оборонявшийся с начала ноября 1941 года Севастополь вновь остался в Крыму один на один с противником. Манштейн получил возможность сосредоточить на городе-крепости основные усилия 11-й армии. 2 июня 1942 года начался очередной штурм Севастополя. 4 июля город пал, выдержав 250-дневную осаду.
Весь Крым оказался в руках немецко-фашистских войск.
ЛИТЕРАТУРА
1.Абрамов В.В. Керченская катастрофа // http: // militera.lib.ru/h/abramov_vv/ index.html. – 352 с.
2.Барнетт К. Военная элита рейха. – Смоленск: Русич, 1999. – 525 с.
3.Быков К.В. Последний триумф Вермахта: Харьковский «котёл». – М.: Яуза-пресс, 2009. – 480 с.
4.Василевский А.М. Дело всей жизни. Воспоминания. – М.: Издательство политической литературы, 1989. – Т. 1. – 320 с.
5.Василевский А.М. Дело всей жизни. Воспоминания. – М.: Издательство политической литературы, 1989. – Т. 2. – 303 с.
6.Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. – М.: Вече, 2009. – 384 с.
7.Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3 // http: //militera.lib.ru/db/halder/ index.html. – 584 с.
8.Горбатов А.В. Годы и войны // http: //militera.lib.ru/memo/russian/ gorbatov/index.html. – 366 с.
9.Дайнес В.О. Конев против Манштейна. «Утерянные победы» Вермахта. – М.: Яуза, Эксмо, 2010. – 432 с.
10.Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М.: Издательство агентства печати Новости, 1979. – Т. 2. – 392 с.
11.Исаев А.В. Антиблицкриг Красной Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011. – 384 с.
12.Калашников К.А., Феськов В.И., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях. 1941-1945 гг. – Томск: Издательство Томского университета, 2003. – 620 с.
13.Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идёт на Восток. – М.: Изограф, Эксмо, 2005. – 558 с.
14. Катастрофа Крымского фронта.1942 год // Сайт «Военное обозрение» // http://topwar.ru/5817-katastrofa-krymskogo-fronta. – 6 с.
15.Киличенков А.А. Краткий курс Великой Отечественной войны. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 607 с.
16.Крымский фронт // bdsa.ru/index.php?option=com_conten. – 2 c.
17.Кузнецов Н.Г. Курсом к победе // http: // militera.lib.ru/memo/russion/kuznetsov2/index.html. – 526 c.
18.Кузнецов Н.Г. Накануне // http: // militera.lib.ru/memo/russion/kuznetsov-1/index.html. – 534 c.
19.Манштейн Э. Утерянные победы // http: // militera.lib.ru/memo/german/manstein/index.html. – 896 c.
20.Мартиросян А.Б. Миф о «верном псе» Сталина Льве Захаровиче Мехлисе // http: //delostalina.ru/?p=434. – 12 с.
21.Мерецков К.А. На службе народу // http: //militera.lib.ru/memo/russion/meretskov /index.html. – 462 с.
22.Мехлис // ejwiki. org/ wiki/Мехлис. – 5 с.
23.Мордиков Н. Полководец // mordikov. fotal. ru/kozlov1.html. – 6 c.
24.Монастырский Ф.В. Земля, омытая кровью // http: //militera.lib.ru/memo/russion/monastyrsky-fv /index.html. – 228 с.
25.Мощанский И.Б. Борьба за Крым (сентябрь 1941 – июль 1942) //l-reading.org.na/book.php? book=. – 73c.
26.Мухин Ю.И. Уроки Великой Отечественной. – М.: Яуза-Пресс, 2010. – 448 с.
27.Невзоров Б.И. Май 1942-го: Ак-Монай, Еникале // rkka.ru/oger/krym/main.htm. – 10 c.
28.Перекрест Т.П. Не ради славы. – М.: Воениздат, 1970. – 188с.
29.Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. – Смоленск: Русич, 1993. – 496 с.
30.Рокоссовский К.К. Солдатский долг // http: //militera.lib.ru/memo/russion/rokossovsky /index.html. – 367 с.
31.Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое исследование. – М.: Олма-Пресс, 2001. – 608 с.
32.Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК: документы и материалы. – М.: Терра, 1996. – Т. 16 (5–2). – 624 с.
33.Самсонов А. Катастрофа Крымского фронта. К 70-летию Керченской оборонительной операции // Сайт «Военное обозрение» // http://topwar.ru/14181-katastrofa-krymskogo-fronta. – 8 с.
34.Симонов К.М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. Разные дни войны: дневник писателя. Т. 2: 1942-1945 годы. – М.: Художественная литература, 1983, – 688 с.
35.Степной С. Одна солдатская судьба // http: //bospor.com.ua/article/id/4373. – 2 с.
36. Смирнов В.П. Краткая история Второй мировой войны. – М.: Весь мир, 2005. – 348 с.
37. Сто великих полководцев Второй мировой. – М.: Вече, 2005. – 477 с.
38.Типпельскирх К. История Второй мировой войны. 1939-1945. – М.: АСТ, 2001. – 795 с.
39.Трагедия Крымского фронта // voln59.narod.ru/kerch 1942.htm. – 5 с.
40.Уткин А.И. Вторая мировая война. – М.: Алгоритм, 2002. – 864с.
41.Ченнык С. Лев Мехлис. Инквизитор Красной Армии // с-cafe.ru/days/bio/24/043 24. php. – 6 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Материал для данного приложения был любезно предоставлен историком-краеведом Виктором Борисовичем Типтюком. Виктор Борисович много лет плодотворно трудится на ниве изучения и популяризации истории нашего края. Им сняты такие видеофильмы, как «Времена и люди города Усть-Каменогорска. История города», «Станислав Черных. Гражданин, писатель, краевед», «Летопись мира. Архитектура Восточного Казахстана. XVIII – начало ХХ века», «Джунгария. Учебно-методический комплекс», «Зинаида Фурцева. От сердца к сердцу» и многие другие.
Особое место в работе В.Б. Типтюка занимает Великая Отечественная война и участие в ней наших земляков-казахстанцев. «Восточноказахстанцы – участники Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза восточноказахстанцы», «Герои «летающих танков»», «Навстречу Победе» (о Т. Я. Бегельдинове), «В аварийном режиме» (о С.Н. Борозинце) – вот далеко неполный перечень фильмов Виктора Борисовича по этой тематике.
А ещё В.Б. Типтюк сделал видеозаписи воспоминаний ряда наших ветеранов: В.П. Пизикова, В.А. Чудинова, М.П. Горлова, Ф.З. Фурцевой, В. Крыгина, Я.В. Цыкунова, Н.Ф. Недорезова. Сейчас этих людей уже нет в живых. Они ушли навсегда и унесли с собой то знание войны, которое было у её непосредственных участников. Год от года всё меньше остаётся среди нас ветеранов Великой Отечественной, всё меньше людей знающих и помнящих ту страшную войну не по кинофильмам и книгам. Тем ценнее то, что сделал Виктор Борисович – маленький, но подлинный штрих в великую летопись Великой войны. За что ему огромное спасибо.
Воспоминания Василия Александровича Чудинова, вошедшие в это приложение, были записаны на камеру в 2001 году. Здесь в переложении на бумагу приведены их фрагменты, касающиеся тематики нашей книги. В.А. Чудинов был непосредственным участником боевых действий на Керченском полуострове в январе-мае 1942 года. В звании лейтенанта и должностях командира роты и начальника штаба батальона он сражался под Феодосией и на Парпачском перешейке. Пришлось ему пережить и весь ужас, всю горечь майской катастрофы наших войск.
Судьба хранила Василия Александровича. Он остался жив, смог переправиться через Керченский пролив. Дальнейшая его фронтовая жизнь также была связана с Черноморским регионом. Он – участник боёв под Новороссийском. Будучи тяжело ранен, Василий Александрович после госпиталя был комиссован.
Трудился в Гусинской средней школе (Бухтарминский район) сначала учителем, затем – директором. Был заведующим отделом пропаганды и агитации Бухтарминского райкома партии, вторым секретарём этого же райкома. Закончил заочно физико-математический факультет Семипалатинского пединститута. С 1952 года – на преподавательской работе в Усть-Каменогорском пединституте (с 1990 года – Восточно-Казахстанском государственном университете). Кандидат физико-математических наук, доцент. Автору запомнились лекции по логике, которые Василий Александрович читал студентам исторического факультета.
В 2003 году Василия Александровича Чудинова не стало. Вечная ему память и земной поклон.
ВОСПОМИНАНИЯ В.А. ЧУДИНОВА
ВЫСАДКА В ФЕОДОСИИ
(НАЧАЛО ЯНВАРЯ 1942 ГОДА)
В Новороссийск мы прибыли в конце декабря 1941 года. Наш батальон разместили в бане. Баня стояла на обрывистом скалистом берегу как раз недалеко от Цемесской бухты. Отличнейшая баня. Большая. Чистая. Можно было в ней и не один батальон разместить. Уж не знаю, армейская ли она была или городская.
На море был сильнейший шторм. Вся бухта – в тумане, не видно ничего. А ветер… Силы такой, что взрослого человека сбивало с ног. Без преувеличения говорю: опрокинет и тащит по обледенелой земле, остановиться невозможно.
Порт, как я сказал, был недалеко от места нашего расквартирования. Вскоре поступила команда грузиться на корабли. Наш полк грузился на огроменный транспорт «Кубань». Как помнятся мне мои ощущения, так, наверное, метров триста длиной, а высотой, как многоэтажный дом. Громадина. И эта громадина даже в порту вверх-вниз колыхалась очень сильно, так штормило.
Перед отправкой в штабе нам, командирам рот, вручили по 50 листов карт Крымского полуострова и сказали, свернуть карты так, чтобы карта, где значилась Феодосия и территория вокруг неё, была в планшете верхней.
Ещё старшина перед отправкой получил на роту посылки для фронтовиков. Штук пятнадцать ящиков разного размера. И чего там только не было: варежки, кисеты, лепёшки какие-то, колбаса копчёная, бутылки коньяку и вина. Помню, был длинный такой ящик с какой-то кондитерской фабрики. А в нём много разных кондитерских изделий. Наш батальон разместили в трюмах транспорта на корме. Ребята из моей роты в нашем отсеке расстелили прямо на полу плащ-палатки. И мы всё содержимое этих посылок прямо на эти плащ-палатки и рассыпали. Такая солидная гора получилась. Ну, и налетели мы на еду и питьё. Голодные ж были. Поели и попили от души. Но вышло нам это всё потом боком.
Где-то под вечер громадина наша отчалила и вышла в открытое море. Если б мне кто-то до этого сказал, что на Чёрном море могут быть такие волны – не поверил бы. Настоящие горы. Наш громадный транспорт швыряло, как щепку. И вскоре у всех нас началась морская болезнь. Она и без такой сытной еды началась бы. А тут мы все ещё так поели сытно. Выворачивало людей чуть ли не наизнанку. В открытом море перенесли первую бомбардировку. Страшное это дело, едва ли можно описать. Корабль огрызался всеми имеющимися огневыми средствами. На нём для самозащиты было установлено восемь зенитных пулемётных установок. Так и плыли до Феодосии.
Под утро наш транспорт прибыл в Феодосийский порт. Там творилось что-то невообразимое. У причальной стенки догорали два корабля, штабеля боеприпасов, выгруженных ранее, – следствие работы немецкой авиации. Под градом осколков от рвущихся боеприпасов началась выгрузка нашего транспорта. Убитых и раненых оттаскивали в сторону, и разгрузка продолжалась.
Мы шли вторым эшелоном. Феодосия уже наша была. Бои шли за городом. Оттуда слышалась ожесточённая артиллерийская канонада.
После разгрузки наш полк оставили в Феодосии и дали задачу очистить город. От трупов очистить. Город-то был уже наш. Но основная масса войск ушла в наступление. И очистить город не успели. Вот мы несколько дней этим и занимались. Убитых было много. Причём, если у самой воды было больше наших, то чем дальше в город, тем больше уже немцев.
Вокруг Феодосийского порта стояли какие-то здания в несколько этажей. Уж не знаю, что там было до войны. Может быть, общежития какие-нибудь. Но немцы устроили в них казармы для своих войск. Вот и в этих казармах мы тоже трупы убирали. При подходе к зданиям лежали большей частью наши моряки. В основном головами к зданию падали почему-то. Но чем ближе к зданиям, тем больше лежало немцев. Около штакетников, здания опоясывающих, немцев было уже очень много. И вообще убитых было столько, что трудно было ногу поставить. Что же творилось в самих казармах… Трупами завалены комнаты, коридоры. Труп на трупе. И в основном немцы. Тут стреляли мало. По всему было видно, что шла рукопашная. В ход шли штыки, ножи, приклады. Раскроенные черепа, разбитые в месиво лица… Страшно…
ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ-ПОД ФЕОДОСИИ
(15-18 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА)
Через несколько дней наш полк получил приказ выдвигаться из Феодосии в сторону города Старый Крым. А надо сказать, что в полку у нас было очень много кавказцев: армяне, грузины, азербайджанцы, осетины. Рота у меня была в основном ими укомплектована. И комбат наш был армянин – майор Минасьян. Высокий был такой, солидный, седой. Опытный вояка. Носил в деревянной кобуре маузер. Наградной. А на кобуре маленькая медная табличка с надписью: «За Халхин-Гол». За него же имел и орден Красного Знамени.
Выступили. Двигались пешим маршем. День шли и всю ночь. Не доходя Старого Крыма, на рассвете получили новый приказ: остановиться, окопаться и ждать противника. Местность: чуть всхолмлённая равнина. Вот на одном из этих невысоких холмов моя рота и расположилась. Нарыли мы себе окопчиков, как тогда говорили – индивидуальных стрелковых ячеек, и стали ждать. Ещё с ночи вдалеке был слышан грохот разрывов. И я из своего окопа постоянно в ту сторону в бинокль вглядывался. Рано утром показались немцы. Шли цепями (точно как в кино показывают). Но впереди их цепей двигалась плотная полоса разрывов. То есть шли они за артиллерийским валом. И эти разрывы приближаются к нам. И вскоре снаряды стали рваться уже среди наших окопов.
И вот тут основная масса моих кавказцев, за исключением осетин и нескольких грузин, не нашла ничего лучшего, как побросать оружие и побежать. Бежали под холм, в ложбину. Надеялись, видно, там от разрывов укрыться. Те ещё вояки. Необстрелянные. Забыли всё то, чему я их учил. Ору: «Куда?! Назад! Вернуться!» Какое там! И остались на этом холмике в окопах со мной совсем небольшое количество бойцов. Такое вот боевое крещение было у моей роты. Сшибли нас немцы с наших позиций, и покатились мы на восток. Феодосия осталась справа. А после того боя у меня в роте осталось из 156 всего 64 человека. Так-то вот.
НАСТУПЛЕНИЕ
(27 ФЕВРАЛЯ)
Мы отступили в самую узкую часть Керченского полуострова, на так называемый Парпачский перешеек. Наши позиции там назывались Ак-Монайскими позициями. Худо-бедно мы там закрепились. Немцы выбить нас оттуда не смогли. Наступила передышка.
Всю вторую половину января и почти весь февраль Крымский фронт готовился к наступлению.
На передовой стояло относительное затишье. Велась вялая артиллерийская стрельба с обеих сторон. Стрелковое оружие, во всяком случае, на нашем участке, применять возможности не было, т.к. нейтральная полоса была километров шесть. Мы зарылись в землю. За линией наших окопов была создана полоса дотов и дзотов, а впереди простирались проволочные заграждения и минные поля.
За это время я продвинулся по служебной лестнице. Меня назначили начальником штаба нашего батальона.
Плохо было с питанием. Поставки с «большой земли» во время ледохода в Керченском проливе совсем прекратились. Был случай, что моя рота (тогда я ещё был командиром роты), находясь в боевом охранении, девять суток не получала никакого продовольствия.
На фронте много «шансов» погибнуть и во время затишья. Так, со мной как раз в этот период произошло два случая – смерти в глаза посмотрел, можно сказать.
В расширяющемся месте окопа, около площадки для станкового пулемёта, старшина раздавал офицерам сахар. На площадке у него стоял мешок с этим сахаром. Он зачерпывал из него кружкой и насыпал в кульки и пакеты офицерам. Мы стояли около него полукругом. И вот тут в центр нашего полукруга врезался снаряд от 76-мм немецкого орудия. А надо сказать, что когда снаряд в тебя летит, то ты его не слышишь. Тот, который шуршит, свистит – не твой снаряд. Так же как и пуля: свистнула над головой или около уха – это мимо. А та, что в тебя… Не слышишь ты её. И со снарядом: тот, что в тебя, – бесшумный, накрывает тебя, как тулупом. Вот и этот снаряд в землю неожиданно ударился, поднял столб земли. Мы все попадали, мешок с сахаром опрокинулся, сахар рассыпался. Но снаряд не разорвался. Стали мы подниматься с земли. Один из командиров рот, лейтенант Топор (запомнил я его фамилию), смеётся и говорит: «Вот теперь меня точно не убьют. Сейчас, – и он показал на снаряд, торчащий из земли, – не убило, так и не убьют». Вскоре он погиб, в самом начале нашего наступления.
Другой случай. Ночью в батальон прибыл начальник штаба полка капитан Колесник. Его нужно было провести в боевое охранение. Я хорошо знал дорогу: надо было дойти до одного из дотов, взять чуть правее и пройти в разрез проволочного заграждения. Затем с большой осторожностью по узкой тропинке пройти противотанковое минное поле и выйти на кладку из двух бревен через противотанковый ров, преодолеть противопехотное минное поле. По этому маршруту ходил я неоднократно, но днем. Ночью же дело осложнялось тем, что темнота на Керченском полуострове такая, что ни зги не видно. Ориентироваться можно было только по компасу. До дота мы дошли хорошо. Но дальше, пройдя проволочное заграждение, я взял чуть левее. Когда под ногой хрустнула льдинка, я понял, что стою на противотанковой мине, не желал бы никому испытать это. Замер. За мной шаг в шаг шел капитан Колесник. Сообщил ему, что мы на минном поле. Пятясь назад, вышли на тропу и двинулись дальше. Сначала осознается не вся опасность, которая только что тебя миновала. Через несколько дней лейтенант Велько – командир взвода, дежурный по штабу, вел той же тропой группу людей и точно так же оказался на минном поле, но ему не повезло. Мина сработала. Велько был однокашником по военному училищу, и у нас с ним были хорошие отношения. Через несколько дней обходя передний край с капитаном Колесником (он с особым пристрастием следил за состоянием инженерных сооружений на переднем крае, особенно проволочных заграждений), мы снова столкнулись с удручающей картиной. Ночью, в кромешной тьме, повар на кухне, запряженной лошадью, угодил возле одного из дотов на противотанковое минное поле. Кухню, лошадь и повара разнесло в клочья.



