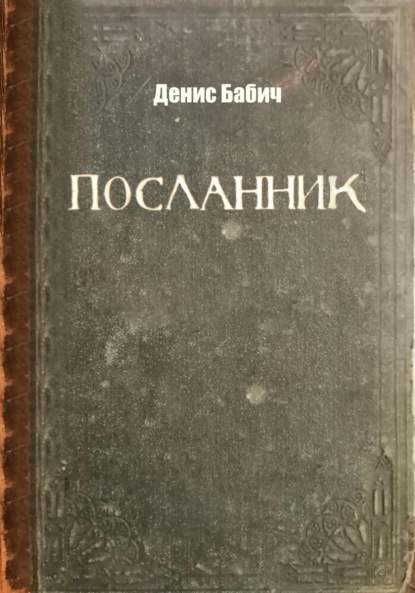
Полная версия:
Посланник
– В нишу он мог попасть, когда обрушился берег, – предположил Покровский. – Так что его положение действительно пока ни о чем не говорит, – он протянул окаменелого трилобита Александрову. – А вот образец для проверки радиографа на глубину анализа мы нашли превосходный. Так что как поднимемся, сразу его и закладывай.
– А Голицын?
– Не думаю, что в этом камушке он узнает доисторического членистоногого.
Работали еще полчаса. Когда сумерки стали сгущаться и зелёные камни стены почернели и слились с берегом, учёные поднялись наверх.
Олеся принялась готовить ужин. Голицын вызвался ей помогать. Покровский, стараясь не привлекать внимания, подошел к академику. Александров открыл водонепроницаемый противоударный кофр, внутрь которого был встроен магнитный радиограф – уникальный российский прибор, позволяющий определять возраст органики всего за несколько часов. Метод магнитной радиографии отличался от радиоуглеродного метода неизмеримо большей, практически бесконечной глубиной датировки. Александров расположил на прозрачной платформе трилобит и накрыл его таким же прозрачным полукруглым куполом.
– Ой, а что это у вас тут?!
Покровский и Александров испуганно обернулись. Рядом стоял Голицын.
– Ты откуда нарисовался? – удивлённо спросил Покровский.
– Из МГУ. Что это за камешек?
– Это окаменелая какашка, – разъяснил Александров, – вот, хотим установить возраст. Не возражаешь?
– А чья какашка?
– Надеемся, что не твоя. Обитателя города, вероятно.
– И когда будет готов анализ?
– Вот настырный! – возмутился Александров. – Тебе-то что? Ты, вроде, нефть искал?
– Завтра будет готов, – сказал Покровский. – Кузьмич, настраивай радиограф и пошли ужинать.
После многодневного перехода всем очень хотелось искупаться, и пока варилась лапша, скромно присыпанная куриной тушенкой, купаться пошла Олеся. Ей же досталась почетная обязанность исследовать вход в воду и дно на предмет пригодности для купания. Олеся имела разряд по плаванию, поэтому это поручили ей, несмотря на ощутимое течение реки.
– Смотреть не обязательно, – без надежды на выполнение этой нехитрой просьбы крикнула Олеся снизу, скидывая одежду.
– Окей, – ответил ей кто-то из расположившихся на краю берега, словно на галерке Большого театра, четверых мужчин, включая шестидесятипятилетнего академика Российской академии наук, члена-корреспондента Фёдора Кузьмича Александрова.
Каждый из них, кроме психолога, был с Олесей в экспедициях не один раз, но пропустить ее очередной заплыв не позволял инстинкт. Только, пожалуй, Латыш наблюдал за своей подругой больше из соображений безопасности. Несколько минут учёные следили за пучком ее русых, собранных на затылке волос, который то и дело уходил под воду.
Выбравшись через пару минут на берег, Олеся без стеснения сняла мокрый лифчик и, стоя по колено в воде, стала мылить голову.
– Вода ничего, а дно так себе! – крикнула она. – Острые камни.
Она отвернулась, сняла трусы и стала намыливать остальные части тела. Учёные с наслаждением любовались ее фигурой, похожей на виолончель. Четыре пары глаз сопровождали каждое ее движение. Особенно, когда она наклонялась к воде, чтобы смыть мыло. Но каждый из наблюдателей ждал не этого момента. Все ждали, когда она повернется. За месяц, а иногда и месяцы экспедиций, проведённых в полевых условиях вдали от всякой цивилизации, тело Олеси возвращало себе естественные черты, свойственные взрослым женщинам. Все мужчины и даже некоторые женщины, путешествующие с ней, всегда любовались её густым треугольником, нижняя граница которого переходила глубоко на бедра.
Закончив банные процедуры, Олеся на некоторое время ушла под воду и вскоре появилась из неё, как Афродита из пены. Она решительно направилась к берегу и пока вытиралась, наблюдатели вдоволь насладились видом ее естественной красоты.
По странному закону природы мужчинам в женщинах нравятся достоинства, а с ума сводят недостатки. Олеся была ярким тому примером. Она слегка косила на один глаз, и от этого ее взгляд, который чаще был направлен вниз, нежели на собеседника, становился загадочным и даже мистическим. Движения ее были медленные, неловкие и если она что-либо роняла из рук, а делала она это часто, то сначала некоторое время смотрела на упавший предмет и лишь потом, с виноватой улыбкой поднимала. Она немного картавила, точнее, произносила звук «р» горлом. От этого он становился мягким, а ее речь в сочетании с косым, направленным вниз и иногда исподлобья взглядом, пробуждала в ее собеседниках страстное желание заботиться о ней всю оставшуюся жизнь.
Но первое впечатление было обманчиво. По институту ходили слухи о необычных сексуальных пристрастиях Олеси. И как только очередной покоренный ею студент делился своими чувствами к ней с товарищами, тут же находился «осведомлённый» друг, который со словами «А ты знаешь, что она…» докладывал ему на ухо о «мерзостях», которые творит Олеся в постели.
И это были не пустые слова. Олеся, как только дело шло к сближению, всегда информировала своего ухажера о том, что его ждет. Как правило, на этом отношения заканчивались. И даже не потому, что кандидату не нравились ее фантазии. А скорее потому, что все в институте сразу бы поняли, чем именно они занимаются.
Лишь два человека за все время учебы были зафиксированы в качестве любовников Олеси. С одним из них отношения длились два года и это были счастливые отношения людей, нашедших друг друга. В конце учебы им пришлось расстаться: он уехал на родину в Южно-Сахалинск, и она не решилась последовать за ним, хотя очень болезненно переживала этот разрыв.
Теперь ее другом вот уже более года был Латыш. У всех это вызывало недоумение. Латыш был полная противоположность ее бывшему возлюбленному: флегматичный, безэмоциональный и, казалось, совершенно не интересующийся ничем, что бы касалось лирических отношений между мужчиной и женщиной. Никто, даже приложив все умственные силы, не мог представить Латыша за теми занятиями, которые предлагала Олеся своим знакомым. Хотя, никто бы совершенно не удивился, если бы узнал, что они вот уже год просто дружат, а в одной палатке спят в разных ее углах.
Закончив вытираться, Олеся надела чистое бельё и была вытащена на берег Латышом при участии Покровского.
– У вас лапша не сгорела? – спросила она с укором, показав взглядом на костёр.
– Сгорела, причем у каждого, – ответил Голицын, демонстративно посмотрев на свои штаны.
– Вот ей и будешь ужинать – произнесла Олеся и направилась к палаткам. Пока она колдовала над котелком, искупались остальные.
Ужин на берегу Подкаменной Тунгуски, украшенный мытищинским коньяком, казался божественным, несмотря на переваренную лапшу.
– Какие будут мнения, о том, что мы сегодня обнаружили? – издалека начал психолог.
– Стену из серпентинита, – изрёк Латыш, не отрываясь от банки с тушенкой.
– И откуда она тут взялась? – не унимался чекист.
– Её построили…
– Кто?
– Узбеки или армяне, я не знаю.
– Древние узбеки?
– Тебе же сказали, стена современная! – озлобилась Олеся.
– А почему она тогда у самой воды?!
– Ещё один! – поперхнулся Латыш и с укором посмотрел на упрямого психолога. – Вот врыли её так!
– Зачем?
– Ты дашь поесть?!
– А действительно, – подключился Александров, – зачем надо было на берегу реки городить такую махину, да еще врывать ее на двадцать метров в землю.
– Может это бункер, – ответил Латыш. – Местный губернатор решил укрыться на случай ядерной войны. Стена уходит далеко под берег. Строили её действительно узбеки. Вот берег и обрушился.
– На случай ядерной войны? – оживился Александров. – Насколько я помню, аптекарский камень не защищает от теплового воздействия, а наоборот, аккумулирует тепло. Его даже в саунах для этого используют.
– А, ну вот мы и выяснили! – обрадовался Латыш. – Это сауна местного губернатора.
– Товарищи, а если серьезно? Это явно не бункер: серпентинит – самый неподходящий для этого материал. И естественно, никакая не сауна. А если предположить, что это не современная постройка?
– Я даже предполагать такое не буду, – отмахнулся Латыш.
– Но ведь шлифовали же камни в древнем Египте, – продолжал настаивать на своей версии Александров, – и технология их обработки, так же, как и способ транспортировки, нам до сих пор не вполне понятны. Так почему древние строители не могли аналогичным образом обрабатывать блоки из серпентинита?
– Могли, – сдался Латыш, – но чтобы такое предполагать, согласись, нужны хоть какие-то предпосылки. А у нас их нет.
– Как нет?! – вскричал Голицын, – а какашка?!
Все с изумлением посмотрели на психолога.
– Ну какашка, которую вы положили в радиограф, – уточнил тот.
– Дебил… – тихо выругала Олеся, которой данное слово явно испортило аппетит.
– Это даст лишь косвенную датировку, – ответил Александров, который уже давно пытался изобрести способ, как проверить показания прибора в тайне от Голицына.
– А разве по глубине залегания нельзя примерно определить возраст стены? – не отставал психолог.
– "Залегания"… Слова-то какие знаешь! – передразнила Олеся.
– Можно, – ответил Латыш. – Этой стене не более десяти тысяч лет.
– И как ты это определил? – заинтересовался Голицын.
– Очень просто. Человеческой цивилизации не более десяти тысяч лет. Вот и весь ответ.
– А я слышал, что здесь породы, которым пятьсот миллионов лет, – не сдавался чекист.
– Ну, значит и стене пятьсот миллионов лет, и строили её молдаване, которые появились на Земле раньше сине-зеленых водорослей.
– Прекращай свои прибалтийские шутки! – обижено крикнул Голицын сквозь хохот Олеси, – я же серьёзно спрашиваю.
– И я серьёзно. Люди вылезли из пещер и начали что-то строить не более десяти тысяч лет назад.
– Откуда такая цифра?
– О господи, Голицын! – всплеснула руками Олеся. – Ты бы перед поездкой учебник истории что-ли почитал. Хотя бы за третий класс.
– Ладно, Олеся, не кричи, – вступился Александров. – Он не биолог и не обязан разбираться в теории эволюции. Любой психолог может выглядеть глуповато, если окажется среди биологов.
– А кто его просил здесь оказываться! Вот счастье-то нам какое наблюдать его тут всю дорогу!
– Ну, может он не по своей воле поехал, может он в Сочи хотел, на конференцию семейных сексопатологов, но Родина его послала… в тайгу. Дорогой наш мозгоправ, человеческая цивилизация стала активно развиваться лишь десять тысяч лет назад, потому что десять тысяч лет назад закончилось Валдайское оледенение.
– Это что за оледенение? – насторожился Голицын.
– Это когда ледник покрывал всю Европу почти до Чёрного моря.
– В смысле? – переспросил удивлённый милиционер.
– В коромысле! – крикнула Олеся и закатила глаза к небу. Покровский погладил её по спине, как гладят разозлённую собаку.
– Это что, вроде ледникового периода? – заинтересовался психолог. – То есть это не сказки?
– Это святая и горькая правда, – ответил Покровский. – Я больше скажу, ты только не пугайся, мы сейчас живём в Кайнозойскую ледниковую эру. Она началась совсем недавно и продлится примерно триста миллионов лет.
– Есть ледниковые периоды, а есть ледниковые эры, – продолжил в привычном для себя формате лекции Александров. – На Земле было три ледниковые эры, и каждая длилась по двести-триста миллионов лет. Например, восемьсот миллионов лет назад, в Позднепротерозойскую эру, Земля полностью была покрыта льдом. И так продолжалось триста миллионов лет.
– Это, простите… научные данные? – не сразу поверил Голицын.
– Научнее не бывает, – огрызнулась Олеся.
– Тридцать миллионов лет назад началась наша, Кайнозойская ледниковая эра. До нее двести миллионов лет было межледниковье, когда климат на всей Земле был равномерно одинаковый, жаркий, как сейчас в Африке.
– Я слышал по телевизору, что в Сибири раньше росли бананы, – сказал Голицын, – и не верил…
– Росли, только не совсем в Сибири. Точнее, не в Сибири в современном понимании. Ибо континенты были расположены совсем иначе, и Сибирь находилась сначала на материке Пангея, а после ее раскола – на Лавразии.
– И это правда?! Про мифические материки?
– Ну какие же они мифические… Именно изменения конфигурации материков вызывали изменения направления океанских течений, что было и является одной из главных причин изменений климата.
– Что-то я в учебнике истории за третий класс такого не читал… – недоверчиво прищурился Голицын.
– Читал, только забыл.
– Я уже боюсь спрашивать про знаменитое глобальное потепление, которым всех пугают. Сейчас вы меня добьёте своей академической информацией.
– Ледниковая эра состоит из периодов, – продолжил лекцию Александров. – Период – это ледниковая эпоха и эпоха межлежниковья. Согласно законам физики, они чередуются всю эру в строго определенном сочетании: Ледниковая эпоха длится двести тысяч лет, межледниковье – двадцать. Валдайское оледенение, о котором я говорил, длилось двести тысяч лет. Десять тысяч лет назад оно кончилось, и началась эпоха межледниковья, в которой мы сейчас живём. Продлится она еще десять тысяч лет. А потом, всё: на двести тысяч лет ледник покроет всю Европу и европейскую часть России. Так что про глобальное потепление – делай выводы.
– То есть у человечества осталось не так уж и много времени? – после некоторых раздумий спросил Голицын.
– Ну, как немного… Пять тысяч лет назад возникли шумерская и древнеегипетская цивилизации. Теперь представь, сколько всего за это время произошло. А предстоит еще два раза по пять тысяч лет.
– Так за такое время мы эвон куда скакнём! – обрадовался Голицын. – Неужели человечество не найдёт способ, как избежать оледенения?
– Если оно придумает, как управлять движением континентов и изменять ось вращения Земли, то шанс есть, – с иронией произнёс Покровский. – Но пока человечество занято лишь управлением движения финансовых потоков…
– Ось вращения и так постоянно меняется, – добавил Александров, – вот увидите, в 2050 году в Москве мы будем периодически наблюдать северное сияние!
– Главное, чтобы к 2050 году Москва еще называлась Москвой, – мрачно произнёс Латыш.
– Ага, и чтобы было кому наблюдать, – поддержала Олеся.
– А могли эту стену пятьсот миллионов лет назад построить обезьяны? – неожиданно предположил Голицын.
– МГУ штампует идиотов… – схватилась за голову Олеся. – Ты в школе вообще учился?
– А что здесь такого! Нет? Я просто не силён в ваших исторических доктринах…
– Пятьсот миллионов лет назад жизнь была только в воде, – терпеливо продолжил Александров, – и только в виде примитивных форм типа губок. Триста миллионов лет назад появились первые динозавры. Вымерли они шестьдесят миллионов лет назад. В это же время, шестьдесят миллионов лет назад, наши предки в виде крыс прыгали по деревьям.
– В виде крыс? – удивился Голицын. – То есть наши предки не обезьяны?!
– Обезьяны, обезьяны. А вот предки обезьян – крысы.
– Господи, зачем я спросил… – приуныл психолог и опустил голову.
– Живи теперь с этим! – обрадовалась Олеся.
– Так вот, пятьдесят миллионов лет назад эти крысы, которые назывались пургаториусы…
– Слово какое тараканье! – возмутился Голицын, – что же, во всей ботанике слова другого не нашлось?
– Значит, не нашлось, – продолжил Александров. – Пятьдесят миллионов лет назад они начали эволюционировать и через двадцать пять миллионов лет превратились в обезьян. Обезьяны, в свою очередь, пять миллионов лет назад сбросили шерсть, через миллион лет встали на две ноги, а еще через два миллиона изготовили первое орудие труда, превратившись из обезьяны в человека.
– Так кто же тогда построил эту стену? – с настойчивостью матёрого опера продолжил интересоваться Голицын.
– Получается, губки.
Голицын задумался.
– Хорошо мы его загрузили, – обрадовалась Олеся, – теперь он до утра будет переваривать. Мы хоть поедим спокойно.
Александров плеснул еще немного мытищинского в бокалы товарищей и поднял кружку над головой.
– За пургаториусов!
Все, кроме Голицына, с радостью поддержали тост. Голицын поморщился и выпил, не чокаясь.
– Всё это вредно для суставов головного мозга, – он покрутил пальцем у виска и, уставившись на пламя костра, затих.
Пока он приходил в себя, его спутники жадно расправились с остатками куриной тушенки.
Окончив трапезу, стали расходиться по палаткам. Олеся, любительница чистоты, освещая путь фонариком, отправилась к краю берега мыть тарелки. Латыш остался у костра следить за тем, чтобы его подруга, замечтавшись, не навернулась с обрыва. Покровский расположился на туристическом коврике и записывал в экспедиционный журнал отчет за день. Кузьмич, насвистывая что-то из репертуара Муслима Магомаева, бродил неподалёку в поисках сухих веток для завтрашнего костра. И только Голицын молча заполз в палатку и упаковался в спальный мешок, выказав тем самым полное презрение к коллективу и чудесному звездному вечеру.
Вдруг, разорвав тишину, над сонной тайгой разнёсся вопль Олеси:
– Мать моя святая Ефросиния!!!
Олеся стояла у края берега и смотрела в направлении серпентинитовой стены. Когда учёные, включая полуголого Голицына, подбежали к взволнованной девушке, их удивлению не было предела. Стена, которая сначала показалась путешественникам чёрной, а при ближайшем рассмотрении – зеленой, теперь стала совершенно белой.
Осознав, что данное явление выходит за границы биологи, все посмотрели на Латыша. Но выражение его лица говорило о том, что и геология столкнулась с подобным впервые.
Ни слова не говоря, Латыш направился к палаткам и через несколько мгновений вернулся с электромагнитным топориком. Сохраняя молчание, он спустился по веревке к месту раскопок. Он долго разглядывал поверхность стены через электронную лупу, а затем аккуратно шарахнул по ней топориком, отколов небольшой кусочек. С этим трофеем он поднялся на берег.
– Ну-у… – он пожевал губами в глубоком раздумье. – Вероятно… – он опять пожал плечами. – Может в свете Луны… Зелёный выглядит белым… Хотя… чтобы настолько белым…
– А бывает белый серпентинит? – предположил Голицын.
– Вот чтобы прямо весь белый – нет. Бывают белые вкрапления кальцита и доломита. Но в данных блоках еще час назад их не было.
– Послушайте, друзья, – заговорил Александров, – на Урале в местном краеведческом музее мне рассказали удивительную легенду. Якобы Уральские горы охраняет некий Великий Змей. Так вот его чешуйки – это и есть серпентинит или в простонародье – змеевик. В древности этот камень активно использовался в магических ритуалах. Кстати, в Библии, помню, читал, что Адам откусил от яблока, данного ему Змеем-искусителем, и кусочек этого яблока, упав на землю, превратился в камень-змеевик.
– А причём здесь Библия? – удивился Латыш.
– При том, что аптекарский камень имеет глубокое сакральное значение и эта стена построена из него неспроста.
– А почему она побелела-то?!
– Магия… – после некоторых раздумий ответил академик.
– Возьму в Москву, – Латыш положил камень в карман, – и завтра при свете дня еще на него гляну.
Разошлись по палаткам. Предположения, которые каждый строил сейчас по поводу увиденного и услышанного, долго не давали уснуть, но через пару часов природа взяла своё, и над вечной рекой понёсся могучий храп Александрова в сопровождении мелодичного свиста Покровского.
На этот раз Олеся проснулась без всякой причины. Она была уверена, что кто-то снова стоит перед палаткой. Она что есть силы стала трясти Латыша, но тот не просыпался. Олеся поняла, что вчерашняя история повторяется. Ужас овладел несчастной девушкой. Она вцепилась в Латыша, готовая пролежать так до утра, но какая-то сила тянула её к выходу. Олеся потихоньку расстегнула молнию палатки. В образовавшуюся щель она увидела черный силуэт. Проклятый призрак снова стоял перед испуганной девушкой и снова указывал пальцем на опушку леса. На этот раз он был меньше ростом и выглядел менее устрашающе. У Олеси возникло странное ощущение. Тот, кто явился сейчас перед ней, показался ей определённо знакомым. Пока она пыталась понять, кого же ей напоминал ночной гость, призрак развернулся и поманил Олесю за собой. Олеся, дрожа всем телом, выползла из палатки и увидела, что черный силуэт, добравшись до леса, остановился у огромной сосны. Во мраке, слабо рассеянным холодным светом Луны, он казался совершенно реальным, и от того более жутким было его явление, стирающее грань между миром живых и обителью мёртвых. Призрак смотрел на Олесю, и его взгляд проникал в сознание девушки, парализуя разум. Еще немного, и Олеся пошла бы на зов ночного гостя, но тот в последний момент развернулся и растворился в темноте.
Академик Александров проснулся около шести утра, чтобы проверить и при необходимости изменить показания радиографа. Когда он раскрыл водонепроницаемый кофр, то даже присвистнул. На мониторе светились зеленоватые цифры "480 000 000". Он был приятно удивлён не столько возрасту трилобита, в этом не было ничего удивительного, сколько работоспособности прибора. Самый древний образец, который подвергся испытанию на радиографе, пролежал в земле около ста миллионов лет. Теперь же был зафиксирован новый, совершенно удивительный рекорд – четыреста восемьдесят миллионов! Это вселяло уверенность в точной датировке и других находок.
Александров набрал комбинацию клавиш, и сенсационные цифры, потеряв несколько нулей, стали самыми обыкновенными. Довольный академик закрыл кофр и направился к палатке.
Ранним утром туман укрывал Подкаменную. Фёдор Кузьмич вообразил, как десятки, а может сотни тысяч лет назад кто-то, похожий на него, выходил с утра на берег по каким-нибудь пустякам, а может для важного дела, повлиявшего даже на весь дальнейший ход истории… Кто же он? Первый неандертальский романтик, сочинивший первые в истории Земли стихи из примитивных звуков про удивительную красоту утренней реки? Или такой же, как он, Александров, учёный среднего палеолита, размышляющий над еще более древними и удивительными загадками?
Мысли не давали академику заснуть, и он пролежал, раздумывая о ничтожности современных знаний о зарождении человеческой цивилизации, часов до восьми, пока не проснулись его товарищи.
– Ну что, готов анализ доисторического кала? – сразу взял быка за рога Голицын.
– Готов, куда ему деться, – ответил Александров, зевая, и стал выбираться из спального мешка. По интонации академика Покровский понял, что дело сделано.
– Тогда, может, посмотрим? – не унимался психолог.
– Иди, смотри…
– Только после Вас.
Неторопливо покинув палатку, Александров принялся реанимировать костёр. Психолог топтался рядом, делая вид, что чем-то занят. На шум и запах дыма из второй палатки вышел вечно голодный Латыш.
– Что на завтрак? – спросил он, потирая руки.
– Какой еще завтрак! – приплясывая от нетерпения, произнёс чекист. – Мы на пороге великого открытия!
– Ладно, пошли смотреть, а то Голицын конем станет, вон как топчется, – сказал Покровский
– Давайте хоть пошамаем сперва, – возмутился Латыш, – что за спешка такая! Кто такой Голицын? Я не знаю никакого Голицына. – Он достал из рюкзака сухой паек и присел у костра.
– Как скажете, – ответил Александров и тоже принялся готовиться к завтраку.
Из палатки вылезла лохматая Олеся.
– Ну что, готовы анализы? – спросила она, потянувшись.
– И этой не терпится! – возмутился Латыш.
– Да учёные вы или пожрать сюда пришли! – поддержал Олесю психолог. – Мы полмесяца сюда тащились, нашли такое, о чём Дарвин и Прокопенко с РЕН ТВ могут только мечтать, а они, как хомяки, только спят и чаи гоняют. Я больше вас учёный, раз только мне это интересно.
– Это говорит о том, что ты не учёный, а восторженный неопытный турист, – флегматично ответил Латыш. – Торопишься, нервничаешь, как девушка в первом турпоходе.
– Ладно, Кузьмич, – повернулся Покровский к Александрову, – пойдём снимать показания, а то ведь он поесть не даст.
– Не дам, даже не надейтесь, – радостно помотал головой Голицын.
Учёные нехотя поднялись и направились к прибору. Александров открыл крышку кофра и развернул монитор на гибком приводе вверх.
– Ну вот, три тысяч лет! – сообщил Покровский.
– Кто бы мог подумать, – покачал головой Александров.
– Я же говорил: обыкновенная современная стена, – подмигнул академику Латыш.
Все украдкой посмотрели на психолога. Его лицо было спокойным. Или, если сказать точнее, успокоившимся.
– Ты доволен? – не выдержал Александров, обращаясь к Голицыну. – Можно принимать пищу?
– Да мне то что? – равнодушно ответил Голицын. – Это вам надо. А по мне хоть три тыщи, хоть триста мильёнов.
– Вот и славно, – кивнул Покровский.
После завтрака группа, вооружившись вибролопатками, продолжила очищать от исторического слоя глины каменные глыбы, уходящие в глубину берега и веков. Латыш, немного раздраженный тем, что белый кусок стены в его кармане снова стал зелёным, старательно врубался в грунт у северо-западного края стены, Покровский и Александров неторопливо расчищали юго-восточный край, Олеся тщательно просеивала сквозь пальцы землю в центральной секции. Голицын сновал между Олесей и юго-восточным краем.

