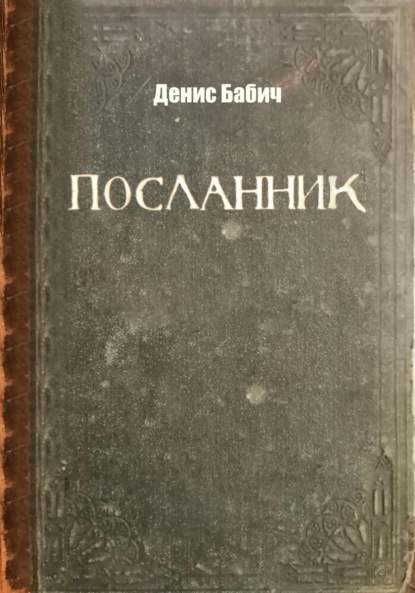
Полная версия:
Посланник

Посланник
Пролог
Министр остановился перед серой металлической дверью. Он, человек, наделённый высшей государственной властью, пришел сюда пешком, отпустив водителя и проделав путь от министерства до Парка Культуры на метро – таковы были условия. Метро поразило его обилием мигрантов и милиционеров. Он не спускался в Московское подземелье лет пятнадцать. Он даже не знал, существует ли оно или отменено каким-нибудь распоряжением. Он был слегка удивлён, что жизнь в Москве кипит, человечки радуются и размножаются.
Остоженка была совсем другой, нежели из окна его бронированного Мерседеса. Красивее. Он невольно возмутился общедоступностью её великолепия. «Как-то неправильно, – подумал он, глядя на улыбающихся прохожих, – надо поставить турникеты». Обилие платных парковок вдоль дороги не облегчило его моральных страданий. Вдыхая полной грудью густой аромат придорожной самсы и раскалённого асфальта, он миновал сквер института иностранных языков и свернул в один из самых дорогих переулков Москвы, где и ждала его неприметная серая дверь.
Сколько раз он мысленно разворачивался и покидал это страшное место. Но виртуальный демарш длился не более секунды. Уйти он не мог. Уход был хуже смерти. Министр протянул холодную руку к кнопке домофона. Он знал, что звонок в дверь – формальность: дверь просматривается с нескольких точек, и тот, кто находится за ней, давно наблюдает за посетителем через видеокамеры с функцией интеллектуального контроля. Такие камеры, считывающие намерения человека по состоянию зрачков и движению мимических мышц, были разработаны российскими учёными на секретном немецком предприятии под Можайском в далёких 2000-х и использовались лишь на нескольких объектах по всему миру.
Щелкнул электрический замок. Министр потянул тяжелую дверь на себя и оказался в палисаднике. Москва за последние сорок лет полностью поменяла свой облик, а в этом палисаднике, скудно обсаженном нарциссами и колючими розовыми кустами, время как будто замерло, остановив свой ход где-то в середине девяностых годов прошлого века.
Министр отсчитал пятнадцать шагов. Справа в стене девятиэтажного жилого дома была еще одна дверь. Всегда открытая. Министр миновал небольшой тёмный коридор и прошел в уютную прихожую, освещённую мягким жёлтым светом. Старый дубовый паркет скрипел под ногами, хрустальная люстра тихо пела, разбуженная сквозняком. Лишь одна деталь разрушала эту тёплую домашнюю атмосферу – стойка рецепции. Преграждая путь, она напоминала, что здесь – офисное помещение. Раскрытый журнал учёта и недопитая чашка кофе наводили на мысль, что прелестная секретарша в облегающей юбке, а может быть суровый мужчина в военной форме с золотыми погонами в спешке оставили свое рабочее место за секунду до прихода гостя.
Министр осмотрелся. В который раз он удивился многолетнему постоянству интерьера. Направо от рецепции, в просторной комнате с большим окном, занавешенным неизменной светло-коричневой шторой, на антикварном столике стоял подсвеченный фиолетовой лампой огромный аквариум. Между окном и книжным шкафом колосился фикус в зелёном горшке. Судя по шуршанию бумаги и щелканью клавиатуры, в комнате работали люди, но министр никогда их не видел. От своего предшественника он получил чёткое предписание – от стойки рецепции повернуть налево. Там, в небольшой нише, располагался кабинет, где за полукруглым офисным столом сидел человек. Его министр тоже никогда не видел. Тусклое освещение позволяло разглядеть лишь силуэт.
Из уст этого человека министр вот уже семь лет получал распоряжения, от которых холодела кровь и мысли отказывались анализировать услышанное. Но министр понимал, что большая политика требует больших жертв, и если не он, так кто-то другой, облеченный высшей властью, будет отсчитывать пятнадцать шагов по старому палисаднику, проходить мимо пустой стойки рецепции, удивляясь вечности фикуса, и сквозь бешеный стук сердца слушать и запоминать подробные инструкции, мысленно ужасаясь их последствиям. А потом беспрекословно исполнять.
Сегодня кабинет был пуст. Как только министр перешагнул порог и закрыл за собой дверь, большой монитор над полукруглым столом загорелся ярким белым светом. На экране сразу же появился текст. Министр прочёл незнакомые ему фамилии, адреса и координаты местности. На следующем слайде описывались действия, которые необходимо было произвести, на следующем – организации, которые надлежало при этом задействовать. Как только министр дочитал текст до конца, экран погас. Министр постоял еще несколько секунд, но больше ничего не произошло, и он понял, что встреча окончена.
На этот раз задание было, можно сказать, гуманным. И хоть смысл его не был полностью ясен, но количество жертв радовало – оно не превышало пяти человек. Но ради этих пяти человек министр был вызван за «железную дверь», а значит, важность этих людей для дальнейшего хода истории трудно было переоценить.
Глава 1. Загадка тунгусского исполина
День угасал, растворяясь в лучах заходящего солнца, а вместе с ним таяла надежда на выход к берегу до наступления темноты. Три дня пешего перехода, обещанные картой местности, давно истекли, а электронный навигатор, вошедший во вкус, уверенно продолжал вести группу на запад. Он, вероятно, выбрал, самый длинный маршрут. Но даже если идти зигзагом или ползти на четвереньках, то тридцать девять километров по среднехвойному лесу никак нельзя было растянуть на шесть дней.
Шли молча. Внезапно затянувшееся путешествие заставило по-другому взглянуть на события минувших дней. Каждый, устало ступая по мягкой, как персидский ковёр, таёжной траве, задавал себе одни и те же вопросы. Почему в разгар лета, когда по Подкаменной Тунгуске сплавляются десятки туристов, на пути группы не встретилась ни одна лодка? Почему стоят пустыми деревни и поселки, куда исчезли сотни их жителей? Еще два дня назад эти наблюдения были просто интересны. Сейчас же мысли невольно связывали массовое исчезновение людей со странным увеличением расстояния до конечной точки маршрута. Как будто кто-то сдвинул русло реки на пятнадцать километров к западу.
– До берега три тысячи двести пятьдесят метров, судя по «Ориону», – человек с большим квадратным рюкзаком остановился и сквозь сетку москитного костюма внимательно посмотрел в планшет.
– Замечательно! – покачал головой его спутник. – Мы шли полдня, а прошли всего сто метров?!
– Мне кажется, ваш «Орион» шалит, – раздался скрипучий голосок из середины колоны. – Я всегда говорил: из китайских запчастей можно собрать только Яндекс-навигатор. Как можно было снаряжать экспедицию таким экспериментальным барахлом?!
– Голицын, тебе бы только отечественного производителя ругать! – возразил здоровый парень, замыкающий колону. – Четыре НИИ трудились над созданием высокоточного автономного навигатора, который использует для ориентировки на местности только магнитосферу Земли, а ты тут лопочешь про какие-то китайские запчасти. Сам ты – экспериментальное барахло.
– С чего такой неинтеллигентный вывод?!
– С того, что психолог в археологической экспедиции – это смелый, но честно говоря, неудачный эксперимент.
– В археологической?! А я думал, мы нефть ищем…
– Ты можешь искать нефть, а у нас впереди что-то, похожее на поляну.
В хаосе непроходимых дебрей клочок земли, стиснутый со всех сторон частоколом сосен и зарослями невысокого, но очень густого можжевельника, казался чудом.
– Это, конечно, не Ходынский аэродром, но две палатки встанут, – оценил обстановку Голицын.
– Ну, раз психолог так решил, значит встанут, – согласился руководитель группы, сбросил рюкзак и откинул капюшон.
Его примеру последовали остальные.
– Олеся, набери, пожалуйста, веток для костра, – попросил руководитель.
– Хорошо, Иван Моисеевич, – ответила миловидная светловолосая девушка и нырнула в можжевельник.
– Латыш, а ты останься, помоги с палатками.
Здоровяк проводил Олесю тревожным взглядом.
– Да не съедят её!
Увидев, что Латыш остался, Голицын метнулся вслед за Олесей. Руководитель группы жестом подозвал оставшихся к себе.
– Я не хотел говорить при психологе, – тихо и быстро заговорил он. – Как вы уже поняли, измерение радиационного фона Подкаменной Тунгуски не является целью нашей экспедиции.
– Конечно, поняли, – нетерпеливо перебил Латыш, – с фоном здесь всё в порядке. А вот с навигацией…
– С навигацией – это отдельный вопрос, – продолжил руководитель. – А теперь ближе к делу. Наша цель – участок правого берега, куда мы, собственно, и пытаемся выйти для производства последнего замера.
– И что же там такое, на правом берегу, что ты скрывал от нас почти две недели? – насторожился Латыш.
– Там произошел оползень… Судя по фотографиям со спутника, почти километр берега ушел под воду. В результате обнажились некие объекты, идеально ровные, почти у самой воды. Нам надо понять природу этих объектов. Есть мнение, что это элементы каменного строения.
– Это точно не строение, – разочарованно покачал головой Латыш, – практически вся Подкаменная Тунгуска протекает в слоях ордовика, а это четыреста пятьдесят миллионов лет до нашей эры. Так что на фото обычный скалистый берег. Или очередные Столбы. Мы такие наблюдали на участке Байкит-Полигус. Те – в виде людей, эти – в виде строения.
– Столбы – значит Столбы. Фотографируем, описываем, везем материал в Москву и получаем премию за работу в зоне повышенной радиации. Если не Столбы… В общем, собираем всё, что подходит для анализа, датируем, классифицируем и, главное, не сообщаем результаты психологу.
– Почему?! – удивился Латыш.
Руководитель группы многозначительно посмотрел на Латыша, а потом повернулся к обладателю квадратного рюкзака, высокому, худому бородачу с узко посаженными ястребиными глазами.
– Кузьмич, помнишь, когда ректор МГУ передавал нам радиограф, у него в кабинете ошивался мужик в погонах?
– Помню, – ответил Кузьмич, – неприятный тип. Смотрел на меня, как на Бена Ладена. Борода ему моя, видимо, не понравилась.
– Да.. С бородой у тебя перебор… Так вот, это он навязал нам в экспедицию психолога.
– Ну и что?
– Я тоже подумал «Ну и что. Психолог как психолог. Немного назойлив, ходит за мной по пятам. Бессмысленные вопросы задаёт. Может, все психологи такие». А когда мы с тобой в Усть-Илимске заказывали вертолёт, он вдруг за нами увязался, припоминаешь?
– Припоминаю. Только, хоть убей, не припоминаю, зачем.
– Сказал, что хочет в храм зайти перед дальней дорогой.
– Что-то я не заметил, чтобы он в храм заходил.
– Он и не заходил. Он в местное отделение милиции зашёл.
– Зачем?!
– Сказал, привет однокласснику передать.
– Что за бред?
– И меня это насторожило. Поэтому я в окошко с обратной стороны здания аккуратно заглянул…
– И?…
– И увидел, как начальник отделения ему честь отдал.
– Легавый! – злобно прошипел Кузьмич.
– Вот тебе и психолог! – согласился Латыш.
– Вот тут-то у меня картина и сложилась. Когда ректор на следующий день после нашего с тобой визита вызвал меня и сообщил о настоящей цели экспедиции, тогда тот, в погонах, и представил мне Голицына. Представил и приставил. Голицын после этого прилип ко мне, как старый советский лейкопластырь. Я, наивный, даже поселил его у себя в Алтуфьево, думал он бедный-несчастный командировочный из Ленинграда. Правда, он мне здорово помог с подготовкой документов. До отъезда была всего неделя, на оформление бумажек совершенно не хватало времени… А у него как-то ловко всё вышло, раз-раз и всё подписано. Это, мягко говоря, меня удивило. Потом, в пути, он чуть ли не за штаны мои держался, ни на шаг не отходил. Жаловался, что первый раз в экспедиции, боится потеряться. Я ещё обрадовался: вот, мол, какой сознательный турист, не придётся его по всей тайге разыскивать. Это только потом до меня дошло, после Усть-Илимска: он следил, чтобы об истиной цели экспедиции я не рассказал вам, а вы ещё кому-нибудь. Вы же в отличие от меня подписку о неразглашении не давали.
– А почему такая секретность? – спросил Кузьмич. – Допустим, объекты на берегу Тунгуски – это действительно древнее строение. Что в этом такого?
– Ты помнишь Петухова? Из лаборатории Гуревича. Он лет пять назад ездил с нами на конференцию в Израиль.
– Что-то краем мозга. С ним, вроде, какой-то скандал был…
– Он нашел на Алдане фрагменты черепов и костей нижних конечностей гоминид. Причём, их сапиентность не вызывала сомнений. Кстати, именно на этих костях впервые испытали твой радиограф. Датировал сам Гуревич. Это он установил возраст – пятьдесят миллионов лет. А после визита к Войцеховскому он сказал, что метод магнитной радиографии еще не отработан и костям на самом деле сорок тысяч лет. Петухов тогда бегал по всему институту и визжал, что раз нашли на Алдане, то в слоях палеоцена, а это пятьдесят-шестьдесят миллионов. А когда он добился проведения повторного анализа, все образцы исчезли, причём, вместе с Петуховым. Уволили Пашу. Спрашивается, за что?
– Это Петухов, который в бане умер? – уточнил Латыш.
– Да, в тридцать шесть лет.
– Бывает… Алкоголь в бане – верная смерть, – вздохнул Латыш.
– Какой алкоголь! Он даже в Новый год крепче чая ничего не пил.
– Ну, хорошо, – заговорил Кузьмич, – найдём мы что-то необычное, скроем от психолога. А дальше? Как мы это будем публиковать?
– Во-первых, ты академик. Кто сможет тебе отказать в публикации! А во-вторых, сейчас меня больше беспокоит, зачем в нашу группу под видом психолога внедрён чекист. Ясно, что не мозги нам в тайге починять. Какова его миссия? Строение, если это строение, он уничтожить не сможет. Получить с нашей помощью данные о природе и возрасте объекта, а нас – в расход, чтоб не болтали?
– Ну, это ты загнул! – сказал Латыш.
– А я не знаю, что думать! Зачем-то он с нами пошёл? Поэтому я и предлагаю – перестраховаться. Кузьмич, неспециалист сможет понять, какой возраст образца показывает радиограф?
– Сможет. Будут цифры на мониторе.
– А изменить их можно?
– Пожалуй, да. Можно переключить радиограф в «демо-режим» и выставить, что угодно.
– Значит, так и будем действовать. Если найдем что-то, выходящее за рамки учебника палеонтологии, выставишь на радиографе три тысячи лет. Пусть докладывает на свою Лубянку.
Палатка, которая предназначалась для руководителя группы, Кузьмича и Голицына была установлена. Латыш занялся второй палаткой – для него и Олеси.
Затрещали сучья, и Олеся в сопровождении Голицына показалась на поляне с двумя охапками сухих веток.
– Профессор, ваше задание выполнено, ветки и Олеся на костёр доставлены! – доложил Голицын руководителю группы.
Профессор Покровский Иван Моисеевич, руководитель группы, палеонтолог, автор знаменитой монографии «Происхождение человека. Вопросы без ответов» указал Олесе место, где разжигать костёр.
Кузьмич, искоса поглядывая на Голицына недобрым взглядом брянского партизана, принялся чистить двустволку – по дороге пришлось шмальнуть в воздух, чтобы отогнать не в меру любопытного медведя. Голицын крутился около Олеси, помогая ей с костром, но больше мешал.
На темнеющем небосводе зажигались одинокие звёзды. Теплый летний лес погружался во мрак холодной августовской ночи. Пламя плясало в зрачках расположившихся вокруг небольшого костра пятерых заброшенных научными нуждами российской археологии в этот глухой край учёных, которые несколько минут хрустели сухарями в абсолютном молчании. Воды осталось мало, поэтому ни суп, ни макароны варить не стали. Только Олеся выпросила банку тушенки, ссылаясь на растущий организм и «критические» дни. Но даже это скромное застолье, больше напоминающее ужин в Шоколаднице, нежели полноценный приём пищи, подняло настроение всем членам экспедиции, порядочно измотанным шестидневным марш-броском по таёжным просторам Эвенкийского района.
– Как же я замоталась шкандыбать с этой экспериментальной лодкой, – нарушила всеобщую тишину Олеся. – Как хорошо было, когда по реке.
– Олеся, за испытание нового снаряжения в условиях пешего перехода тебе немало доплачивают, – напомнил Покровский. – Вон, целый академик Александров, археолог с мировым именем, тащит свой радиограф и не жужжит. А радиограф весит побольше лодки.
– Он мужчина. И академик. А я девушка и аспирантка.
– Зато какой девушка! – вставил Голицын с кавказским акцентом.
– Ой, задолбал, Голицын, – огрызнулась Олеся.
– Кстати, о снаряжении, – напомнил Покровский. – Как приедем в Красноярск, надо будет сразу отослать отчёт в институт. Двенадцать листов.
– И что мне на двенадцати листах написать о лодке, которая даже три порога не прошла, расползлась по шву? – возмутилась Олеся. – Описать, что чувствует моя спина, когда прёт её на себе?
– А почему бы и нет, – ответил Покровский. – Необходимо оценить, в том числе, и возможность её транспортировки.
– Зачем нужна лодка, которая сделана из резины для презервативов… – с грустью заметил Голицын.
– Чтобы она была легкая, и даже девушка могла переть её, как верблюд, – предположила Олеся.
– Вот об этом и напиши. И о «Топорике походном электромагнитном» не забудь. Ты единственная, кто по нему еще не отчитался.
– Я его только сегодня в руки взяла!
– Камни не попробовала рубить? – подмигнул Голицын. – Он камни рубит.
– Сейчас попробую, – раздраженно ответила Олеся. Она схватила болтавшийся у нее на поясе небольшой топорик и с размаху рубанула по небольшому валуну, с которого Голицын в последний момент успел убрать кружку с чаем. Раздался противный скрежет, и из-под топорика вылетел сноп искр.
– Так ты его включи, ворона! – засмеялся Голицын.
Олеся тихо выругалась, нажала на встроенную в торец рукоятки кнопку и ударила опять. Валун, как кусок масла, распался на две части.
– Капец! – восторженно произнесла Олеся и замахнулась топориком на Голицына. – Он из чего? Из брони?!
– Неважно, – ответил Голицын, – ты таких слов не знаешь.
– Особый магнитный состав, – педантично разъяснил академик Александров. – При подаче напряжения атомы кристаллической решетки на кончике лезвия выстраиваются в ряд и крепко удерживаются электромагнитными силами, топорик становится острее бритвы и при этом не тупится. Электромагнитный импульс дополнительно разрушает структуру предмета в месте контакта с лезвием.
Олеся с интересом повертела топорик в руках и засунула обратно в специальное крепление на широком ремне.
– Меня сейчас волнует «Орион», – задумчиво произнёс Покровский. – Вроде он показывает ерунду, но… Мы ведь реально идём уже шесть дней, а по самым пессимистичным расчётам тут четыре дня пути, никак не больше. Тем более, что в графитовых ботинках мы топаем, как по асфальту, бьём все рекорды скорости.
– Сбиться с пути мы тоже не могли, – поддержал Александров, – небо звёздное.
– А я слышал, – таинственно заговорил Голицын, – что здесь аномальная зона. Время и пространство меняются местами.
– Аномальная зона везде, где ты, – не отрываясь от тушенки, предположила Олеся.
– Нет, серьёзно. После падения тунгусского метеорита здесь и началось. Часы останавливаются, стрелка компаса крутится, время замедляется. Я читал, что это был не метеорит, а произошёл разрыв в пространственно-временном континууме.
– Это черная дыра столкнулась с белой, – махнул рукой Латыш. – Кто за то, чтобы пойти спать?
– Да подожди ты спать! – толкнул его Голицын. – Я понимаю, вы все учёные с мировыми именами и фамилиями и для вас тема тунгусского метеорита примитивна. Но я-то простой психолог. Я, как и любой обыватель, с детства интересуюсь этой загадкой. И тут я оказываюсь в нескольких десятках километрах от его падения! А вы спать. Расскажите хоть, что нового говорит наука по этому поводу. Свежачок, так сказать.
– Говорит, что это упал метеорит. Тунгусский… – зевнул Латыш.
– А вот я склоняюсь к тому, что это Тесла поставил опыт по передаче энергии на расстоянии, – оживился Голицын. – Очень правдоподобная версия. Во-первых, идеально выбрано место, где нет людей, во-вторых…
– А действительно пойдемте спать, – предложил Покровский. – Антинаучного бреда я наслушался у себя на кафедре. Еще здесь не хватало.
– Ты считаешь опыты Теслы антинаучным бредом?! – выпучил глаза Голицын.
Покровский поморщился и встал.
– Вот знаешь, что меня больше всего раздражает в дураках? – не унимался Голицын. – Глупость! Тесла – признанный величайший изобретатель. Его именем названа единица напряжения … или сопротивления.
– Магнитной индукции, – уточнил Александров.
– Тем более. Ни один современный учёный по уровню своих заслуг не дотягивает даже до коленки Теслы. И вот один из таких бездарей встаёт и заявляет, что опыты Теслы антинаучны! Как говорит Олеся – капец!
– Вы кончили, молодой человек? – равнодушно спросил Покровский. – Тогда спать.
Учёные затушили костёр, убрали остатки ужина и разошлись по палаткам.
Под негромкое бухтение психолога, который в свойственной ему пошловатой манере перечислил все прелести Олеси, что сделалось уже традицией, Александров и Покровский быстро уснули.
А вот Латыш и Олеся не спали долго. Им никто не мешал обсудить последние новости.
– Теперь всё ясно, – вздохнула Олеся, – я что-то такое и предполагала. Откуда здесь радиация?! Но меня смущало, что Иван Моисеевич нам не рассказал об этом сразу.
– Теперь видишь: не мог он. Представляешь, две недели в себе это нести! Похоже, психолог прочно его пасет.
– Не зря он меня так бесит!
– Завтра, если выйдем к реке и найдём что-то необычное, будешь его отвлекать.
– Как?
– Он же влюблён в тебя. Заманишь его в лесок. Попросишь комариков отгонять.
– Не боишься? А вдруг он меня соблазнит и … я соблазнюсь?
– Не волнуйся. До этого дело не дойдёт. Нет на Подкаменной ничего интересного и быть не может. Это тебе не Московская область, где под каждым деревенским сортиром захоронения раннего плейстоцена.
– А как же Петухов? Нашел на Алдане кости. Им было пятьдесят миллионов лет!
– Олеся, человеческим костям не может быть пятьдесят миллионов лет. Аспирантке стыдно в такое верить.
– Но я читала отчет Гуревича. Он это подтвердил. А если сам академик Гуревич подтвердил, то какие могут быть сомнения!
– Но он же потом и опроверг.
– Так он после Войцеховского опроверг!
– Знаешь, Олеся, и большие учёные часто ошибаются.
– Ага, академик Гуревич ошибся, доцент Петухов ошибся, еще пять человек, которые фиксировали показания радиографа, ошиблись, один Войцеховский не ошибся.
– На то он и Войцеховский…
– А ты не допускаешь, что это Войцеховский ошибся и человеческим костям может быть пятьдесят миллионов лет? – подмигнула Олеся.
– Разница в том, что бывают ошибки, а бывает то, чего не может быть, потому что не может быть никогда, – немного раздраженно ответил Латыш.
– А если мы возьмём и перепроверим?
– Что перепроверим?
– Приедем в Москву и перепроверим образцы Петухова. Радиограф у нас есть.
– Образцы исчезли, нечего перепроверять – сонно ответил Латыш.
– Не-а, – радостно сказала Олеся, стаскивая капюшон спального мешка с лица Латыша. – Я их стырила!
– Чего ты их?!
– Скоммуниздила. Попялила. Ушакалила. Маленькую косточку…
– Ты что, с ума сошла? – вынырнул из мешка Латыш. – Ты знаешь, что за это сделали с Петуховым?!
– Ну, ты же меня не сдашь. А мы приедем и тихонечко проверим. Чтобы ты убедился.
– В чём?!
– Что ей пятьдесят миллионов лет.
– Вот в чём я уже сейчас убедился, что тебя надо гнать из аспирантуры.
Олеся замолчала.
– Давай спать, – сказал Латыш и снова закрылся капюшоном. Олеся залезла в мешок, затихла, а потом пнула Латыша коленом:
– А представляешь, если мы завтра на берегу Подкаменной Тунгуски найдём дом возрастом четыреста пятьдесят миллионов лет!
– Еще один Голицын! Всё, спать.
Олеся проснулась среди ночи. Вечерний чай пробудил в ней острое желание прогуляться до ближайшего дерева. В экспедиции существовало правило – ночью никуда не ходить поодиночке. Она стала будить Латыша, но тот не просыпался. Это очень удивило Олесю. Латыш спал чутко и всегда вскакивал от лёгкого пинка. После еще одной неудачной попытки разбудить своего друга, Олеся решилась выйти одна. Луна тускло освещала поляну. В серебристом полумраке лес казался сказочно-нереальным. Ожившие деревья покачивали костлявыми ветками, то ли приветствуя Олесю, то ли угрожая. Олеся отошла от палатки на несколько шагов и присела. Пушистый куст можжевельника щедро окутал девушку своим густым смолистым ароматом. Олеся растёрла его веточку между пальцами. Ей совсем не хотелось возвращаться. Запахи ночи кружили голову и звали на приключения. Олеся уже стала подумывать о дерзком марш-броске метров на сто вглубь лесной чащи, как вдруг почувствовала, что кто-то смотрит на нее из темноты. Она оглянулась. Прямо за её спиной стоял человек. Рост его был огромен, руки свисали почти до колен, тело укрывал какой-то рваный балахон. Олеся закричала и, спотыкаясь о коренья, бросилась к палатке. Оказавшись внутри своего сомнительного убежища, она стала яростно трясти Латыша, но тот продолжал спать, как убитый. Тогда Олеся схватила карабин, который Латыш всегда держал рядом, и осторожно выглянула. Незнакомец громадной чёрной тенью стоял перед палаткой, заслоняя верхушки деревьев. Олеся передёрнула затвор и выстрелила практически в упор. Но незнакомец даже не шевельнулся. Тогда Олеся выстрелила ещё четыре раза, истратив все патроны. Человек стоял, как прежде, низко опустив голову. Вдруг он поднял лицо. В слабом свете Луны Олеся смогла разглядеть широкие скулы и огромные черные глаза. Несмотря на ужас, сковавший мысли, Олесе на секунду показалось, что эти глаза, наполненные осмысленной пустотой, вернули её куда-то очень далеко. Какое-то сладкое воспоминание мелькнуло у нее в голове, но тотчас испарилось, когда незнакомец поднял руку и коснулся ею своего лба. Затем он направил длинный палец в сторону, как бы показывая направление, после чего развернулся и растворился в темноте.

