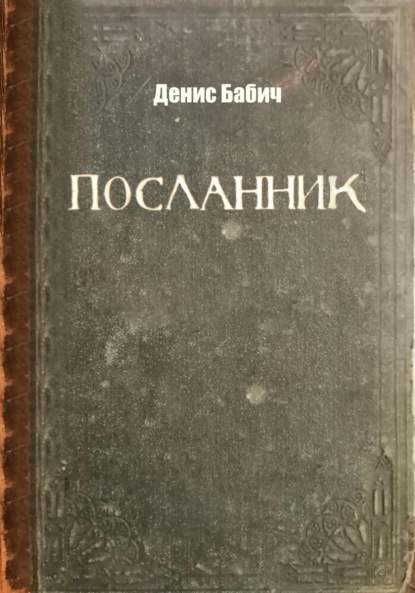
Полная версия:
Посланник
Олеся, дрожа от страха, забилась в дальний угол палатки. Кроме животного ужаса ей не давали покоя три мысли. Галлюцинация это или нет; почему никто не проснулся, когда она кричала и палила из ружья; почему незнакомца не разорвало на куски от пяти залпов крупной дробью. Заснула она только под утро, так и не найдя ответов.
Утром ее разбудил Латыш.
– Ну и дрыхнешь ты, подруга. Уже восемь. Иди завтракать.
Олеся выбралась из палатки и внимательно оглядела поляну. Ничего необычного или похожего на останки разорванного тела она не обнаружила. Всё было буднично и безмятежно. В большом котелке кипела гречневая каша. Недалеко от каши был расположен Голицын. В руках он держал свой личный фитнес-термос, с которым бесформенные дамы среднего возраста посещают занятия по боди-пампу. Остальные участники экспедиции неторопливо рассаживались вокруг костра, вооруженные обычными металлическими тарелками и кружками.
Олеся подошла к деревьям, в направлении которых она стреляла, если всё это ей, конечно, не приснилось. Но надежды на галлюцинацию или кошмарный сон исчезли: из ствола огромной лиственницы были вырваны куски древесины. Олеся жестом подозвала Латыша.
– Мне надо тебе кое-что сказать, – прошептала она, когда тот подошёл, – смотри…
Она указала на искорёженное дерево и с волнением рассказала о ночном происшествии. Латыш задумчиво провёл рукой по выщерблинам.
– Да-а, сколы свежие..
Он вернулся к костру.
– Как спалось, друзья? Слыхали, вроде стрелял в лесу кто-то?
– Нет, мы ничего не слышали, – насторожился Покровский. – А ты слышал?
– Я слышала, – тихо сказала Олеся. – Но может, показалось?
Покровский посмотрел на Латыша и тот понял, что вопрос надо прояснить, но без участия Голицына.
Тепло утреннего костра и душистая гречневая каша с чаем приятно согревали и вселяли надежду на то, что новые батарейки, которые Латыш установил в навигатор, пробудят в нём совесть и ту микросхему, которая должна была стараниями четырех российских НИИ задать путеводной стрелке чудо-прибора правильное направление, соединив её, наконец, с магнитосферой Земли.
– Сегодня мы должны выйти в нужную точку, в которую должны были выйти еще позавчера… – сказал Покровский, разглядывая карту. – Когда окажемся на берегу, будьте осторожны – возможны оползни.
– А если мы и сегодня не выйдем? – спросил Голицын, громко отхлебнув чай из фитнес-термоса. – Что-то мне подсказывает, что у вас проблемы с ориентацией на местности. На пять дней просчитались.
– На три, – поправил Покровский в задумчивости. Он совершенно не понимал, откуда взялись эти лишние три дня – целая вечность для такого короткого маршрута.
Пока собирали палатки, Латыш успел передать Александрову всё, о чём ему рассказала Олеся.
– А карабин? – спросил Александров.
– Карабин разряжен, хотя еще вчера вечером там была полная обойма. Я проверял. И судя по запаху, стреляли из него несколько часов назад. Ошибки быть не может.
– Но я ничего не слышал. Ты допускаешь, что Олеся ночью отошла от лагеря на пару километров, пять раз пальнула в какого-то мужика, дробь сквозь ветки досвистела до палаток и чудом не превратила их в решето?
– Она не страдает лунатизмом. Это точно. А выщерблины совсем свежие и дробь легла кучно, то есть стреляли почти в упор.
– Нехорошо всё это… В тайге подобные происшествия, да еще с оружием могут кончиться плохо. Если ночью что и было, я подозреваю, что тут не обошлось без психолога. Кто ж его знает, чему их там в школе милиции учили.
Основательно подкрепившись и набравшись сил, учёные покинули гостеприимную поляну и продолжили путь по мокрому после ночного дождя лесу. Новейшие графитовые комбинезоны не промокали и при этом пропускали воздух, словно были сделаны из тончайшего хлопка. Встроенный в каждый комбинезон кондиционер подогревал ткань изнутри – утренний лес был всё еще прохладен.
Некоторые думают, что настоящие хозяева тайги медведи. В крайнем случае – люди или китайцы. Но они заблуждаются, и неведение их оттого, что они не бывали в тайге летом. А летом тайга гудит от мошки, комаров и оводов. И нет от них спасения. Группу в ярко оранжевых комбинезонах, экипированную самым современным и частично экспериментальным оборудованием, от истинных хозяев тайги оберегал ПИП – Прибор Индивидуальный Противомоскитный. Он располагался у каждого из путешественников на поясе и работал от двух батареек. Ультразвуковое излучение, совершенно безвредное для человека, создавало непроницаемый барьер в радиусе пяти метров для любых видов насекомых. Это, конечно, не превращало изнурительный многодневный марш-бросок в лёгкую прогулку, но значительно облегчало жизнь и позволяло сосредоточиться на главных задачах экспедиции.
Экспериментальный автономный навигатор «Орион», обрадовавшись новым батарейкам, обещал путникам смену густой лесополосы на береговой кустарник то через двадцать минут пути, то через пять, то снова через двадцать. При этом он периодически советовал повернуть направо. Но прошло два часа, а тайга и не думала отступать. Она непроходимой живой стеной встала на пути измотанной группы. Корявые ветки старых озлобленных пихт и упругие ярко-зеленые лапы молодых и нахальных елей хватали за руки и били по лицу. Олеся, теряя самообладание, прорубала себе путь в таёжных дебрях электромагнитным топориком в опасной близости от спины Александрова, сомнительно защищённой рюкзаком с радиографом.
Еще через два часа раздраженные от неясных перспектив путники стали ощущать первые признаки легкой тревоги, обещающие вскоре перерасти в стабильную, уверенную и неконтролируемую панику. Покровский и Александров имели огромный опыт экспедиций и ориентировались на любой местности, как в собственной квартире. Тем более, что маршрут заранее был тщательно разработан, представлял собой прямую линию и сбиться с него было просто невозможно. Сейчас же происходило то, чего не могло произойти ни при каких обстоятельствах – группа явно потеряла направление.
К трём часам дня ситуация не изменилась: кругом был мрачный лес. Торчащие из стволов, словно пики средневековых всадников, сухие ветки, пытались воткнуться в глаза; поваленные деревья преграждали путь, как дворовые шлагбаумы.
Ельник перемежался с березняком, где высокая и густая трава быстро забирала силы, которых и так ни у кого не осталось. Шесть часов пути изрядно измотали, но никто не думал ни о привале, ни о перекусе. Все молча шли по стрелке «Ориона», чувствуя себя лабораторными крысами при испытании нового супернавигатора.
– А мы вообще туда идём? – не выдержала Олеся.
– Кузьмич, что там на «Орионе»? – спросил Покровский. – Мы движемся? Сколько до реки?
– Если мы не движемся, я иду обратно, – простонала Олеся, – иначе эта лодка меня похоронит.
– Если Вы лишитесь сил, прекрасная Олеся, я согласен нести Вас на руках до самого Красноярска, – пропыхтел психолог.
– Не строй из себя мужчину, Голицын, – посоветовала Олеся.
– Да пусть несёт, – махнул рукой Покровский, – может нам еще пять дней идти с такой навигацией.
– А я согласен, – ответил Голицын. – Кто девушку несёт, то её и спит.
– Это ты Латышу скажи.
– А что Латыш. Латыш – парень современный. Он не изуродован инстинктом ложной собственности.
– Не изуродован, – пробурчала Олеся, – но изуродовать может…
– Товарищи, не хочу вас пугать и расстраивать, – вмешался Александров, – но судя по «Ориону», мы сейчас в Твери. На улице Зинаиды Коноплянниковой у дома двадцать шесть…
– Капеееец! – заорала Олеся, потеряв остатки терпения.
– Я же говорил! – поддержал её Голицын. – Китайские запчасти! По пачке Беломора быстрее бы дошли!
– Ладно, так и запишем в отчёте, «Орион» ваш – хлам, – сказал Покровский. – Достаю старый добрый компас.
– Уверен? – спросил Латыш. – По условиям контракта отказ от «Ориона» возможен только в экстренном случае. Можем деньги потерять.
– Уверен. Улица Зинаиды Коноплянниковой посреди Эвенкийской тайги – это край.
Старый добрый компас показал, что группа идёт в правильном направлении. Это усилило тревогу. Если направление верное, то к реке должны были выйти четыре дня назад.
– Я же говорил, что тут аномальная зона, – приуныл Голицын.
Прошло ещё около часа. Вдруг Покровский остановился и поднял палец.
– Вода… Пахнет водой…
Группа зашагала быстрее. Через пять минут сквозь редкие листья худеньких березок заблестела Подкаменная.
– Не прошло и года! – выдохнула Олеся.
Лес кончился внезапно, и усталые путешественники оказались на высоком берегу, который, резко обрываясь, уходил далеко вниз. Там, играя в лучах солнца, медленно текла бесконечная масса тёмной воды.
Забыв осторожность, учёные подошли к самому краю берега. Обрыв был высотой метров двадцать. Вдруг раздался громкий крик академика:
– Ни хрена себе!
Все повернули головы и замерли от увиденного. Правее, в трёхстах метрах от того места, где остановилась группа, из-под толщи шоколадно-коричневой земли прорезалась чёрная каменная гряда. Огромные глыбы идеальной прямоугольной формы тянулись вдоль берега и снова ныряли под землю через несколько сотен метров. Безупречная геометрия конструкций настолько не вписывалась в беспорядок окружающего ландшафта, что не было даже капли сомнения в её искусственном происхождении.
– Капе-ец! – первой очнулась Олеся.
– Вот тебе и Столбы, – согласился Александров. – Что Вы теперь скажете, уважаемый геолог?
– Ничего, – ответил невозмутимый Латыш. – Ну, стена. И что? Может, ей каких-нибудь три тысячи лет.
– А почему тогда она почти у самой воды?
– Думаю, лагерь разобьем здесь, – сказал Покровский, – над самой стеной возможен повторный оползень, а здесь безопасно и место ровное.
– Так эти булыжники и есть цель нашей экспедиции? – спросила Олеся, разыгрывая удивление перед психологом.
– Да, они трещат от радиации, – ответил Покровский.
Он и академик Александров переглянулись. Их удивила реакция Голицына. А точнее ее отсутствие. Лицо каждого члена экспедиции сейчас сияло от восторга, а психолог был абсолютно спокоен. Показалось, что впервые за все время пути он стал самим собой – серьёзным и бесстрастным.
– А что же молчит наш господин психолог? – не выдержала Олеся. – Он не удивлён?
– А он, наверное, тут сто раз бывал, – съязвил Александров.
Но психолог, ко всеобщему удивлению, продолжал молчать.
– Цель нашей экспедиции, – сообщил Покровский, – определение степени техногенности любых каменных пород, если они вдруг будут обнаружены. Иными словами, мы должны определить, созданы ли эти предметы человеком и если да, то установить их возраст.
Пока ставили палатки, Олеся попросила Голицына сфотографировать ее на фоне Тунгуски. Позировала она долго, и Латыш успел рассказать Покровскому о ночном происшествии.
– Это очень плохо, – ответил Покровский. – Надо быть предельно осторожными. Я бы на твоём месте разрядил карабин.
– Придётся. А я бы ещё от психолога избавился… Несчастный случай… – предложил Латыш и кивнул в сторону высокого берега.
– Давайте действовать по ситуации, – ответил Покровский, – мы же пока ничего не нашли.
Когда палатки были установлены, а Олеся отфотографирована, соорудили костер и в честь выхода на запланированную точку достали самые вкусные консервы – куриную тушёнку собственного производства от академика Александрова. После увеличения пенсионного возраста академик начал опасаться, что пенсию отменят совсем, поэтому купил дом под Москвой, где летом выращивал курочек, а к осени делал из них консервы, запеканки, сушеные джерки и копчёные острые крылышки. Чтобы превратить обед в праздничный ужин, Александров достал из рюкзака бутылочку самодельного коньяка, произведенного там же, под Москвой, по древней Мытищинской технологии.
– По нашей доброй традиции, – торжественно произнес академик, откупоривая поллитровку.
– Чтобы глубже копалось, – поддержал его Покровский и подставил кружку.
– Вообще-то я не пью, – тоже подставил кружку Голицын, – но ради того, чтобы напоить Олесю…
– В мире нет столько водки, чтобы я на тебя позарилась, – поморщилась Олеся.
– И не забывай, – вставил Покровский, – пьяный Латыш страшнее носорога.
– А, он еще тут… – покосился Голицын, – я думал, он не выдержал конкуренции и отстал.
Коньяк смыл воспоминания о шести часах движения в неизвестность, куриная тушёнка вернула вкус к жизни, пьяная красота Олеси скинула каждому лет по двадцать, напомнив о давно забытой студенческой юности.
– Латыш и Олеся – это уникальный случай в биологии, – разомлел от полстакана Александров, и его потянуло на научную эротику.
– Почему? – удивился психолог.
– Потому что они учатся одной группе.
– И что в этом уникального?
– А то, что самки очень редко выбирают самца из своего окружения. Тяготеют больше к чужим самцам.
– А, ясно, это для исключения близкородственных связей?
– И для повышения разнообразия.
– Точно! – Голицын зажмурился от удовольствия, потягивая коньяк из фитнес-термоса, куда он его заблаговременно перелил из кружки. – Вот сейчас вспоминаю, школу, университет. Всё именно так и было! А мы на них еще обижались, почему, мол, не из своего класса мальчиков выбираете.
– Был такой интересный эксперимент, – продолжил Александров, – взяли самок и самцов мушек дрозофил двух видов, американских и европейских, и посадили в одну пробирку. Потрясли. В результате ровно семьдесят пять процентов американских самок подсело к европейским самцам, а семьдесят пять процентов европейских самок – к американским.
– Один к трём… – кивнул Покровский.
– Да, знаменитое соотношение.
– Что за соотношение? – заинтересовался Голицын.
– Всё в природе распределяется в соотношении один к трём.
– Да ладно?! Прям всё?
– А вот ты сам прикинь.
Голицын на несколько секунд затих.
– Вообще, похоже… Четыре типа характера, холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик. Четыре касты: интеллектуалы, воины, купцы, ремесленники. Четыре стихии: воздух, вода, огонь, земля. Четыре времени года, четыре карточные масти…
– Да всё проще, – перебила его Олеся, – распределение доминантных и рецессивных признаков один к трём. Со всеми вытекающими…
– Действительно просто, – покачал головой Голицын. – И почему нас на психфаке МГУ этому не учили…
– А ты, вообще, учился на психфаке? – Олеся пристально посмотрела на чекиста.
– Постой… Ты МГУшник что ли?! – перебил её удивлённый Покровский. – Я думал, ты наш, Ленинградский.
– МГУшник, – приосанился Голицын. – Не похож?
– Еще один уникальный случай, за который надо выпить, – потянулся за бутылкой Александров. – Моисеич никогда не берет в экспедиции представителей этого учебного заведения.
– Чем же ему так не угодили выпускники МГУ?
– Они тупые, – ответил Покровский.
– А какая связь между глупостью и МГУ? – удивился психолог.
– Я не сказал, что они глупые, я сказал тупые.
– Хорошо, объясни мне, дипломированному психологу, в чем разница.
– Разница в степени. У глупого хватает ума, чтобы понять, что он, мягко говоря, не мудрец, потому он молчит и никуда не лезет. А тупой настолько глуп, что не осознаёт этого, поэтому считает своё мнение единственно правильным и везде его высказывает.
– Прекрасно, психология в неоплатном долгу перед тобой. А теперь объясни, при чем тут МГУ.
Покровский на секунду задумался.
– Вот скажи, по какому принципу набирают студентов в институты?
– Ну… по разным, – пожал плечами Голицын. – У кого папа профессор, у кого ноги красивые…
– А еще на вступительных экзаменах определяют степень обучаемости. Если абитуриент смог освоить экзаменационный материал, значит, его можно обучить. То есть при отборе не учитывается аналитические способности, ум, иными словами.
– Ну, ты загнул. Ум и аналитические способности, по-твоему, одно и то же?
– Абсолютно.
– Тут психология с тобой не согласна. Ум – это общее понятие, аналитика – более конкретное.
– Ты путаешь ум и разум. Разум – это совокупность всех мыслительных способностей, а ум – это способность на основании имеющейся информации делать правильные выводы. То есть аналитические способности – это не просто способность анализировать, а способность делать это правильно. Глупец тоже анализирует информацию, но его выводы неверны. То есть разум он имеет, а ум – нет.
– Ну, хорошо, не буду спорить с разумным профессором. Так что там с МГУ?
– В связи с тем, что ВУЗы не принимают во внимание аналитические способности абитуриентов, на студенческой скамье оказываются двадцать пять процентов умных и семьдесят пять процентов обыкновенных студентов. Соотношение один к трём, помнишь?
– Как такое можно забыть!
– Так вот. Когда выпускника какого-нибудь горного университета спросят, что он думает о Своде законов Ярослава Мудрого, он скажет, что ничего не думает, ибо он специалист по горным породам. И это будет правильный ответ. А вот если спросить об этом студента МГУ… В данном храме науки, где соотношение умных и обыкновенных такое же – двадцать пять на семьдесят пять, с первых дней обучения и до последнего семинара внушают, что МГУ – это уникальное учебное заведение с аномально высоким уровнем преподавания всех предметов, в том числе не профилирующих. И даже если вы, например, химики или математики, то историю будете знать так же, как выпускники исторических ВУЗов, экономику, как выпускники экономических ВУЗов, строение митохондрии и кишечника лягушки, как выпускники биологических ВУЗов. А если чего и не будете знать, то необычайно высокий уровень общих знаний позволит вам додуматься до этого самостоятельно. И это действительно так. Позволит – но при наличии аналитических способностей. А это лишь двадцать пять процентов выпускников этого учебного заведения. Остальные же на такое категорически не способны. Однако их за время обучения убедили в обратном. И они по всем вопросам уверенно и безапелляционно высказывают свое безграмотное мнение. Так и хочется сказать: «Молчал бы, за умного сошел». Но где там! Не поймут. Во-первых, нечем, а во-вторых, многолетнее зомбирование сделало свое дело: убедить их в том, что они не правы, невозможно.
– Видимо, ты сильно пострадал от одного из таких выпускников, – съязвил обиженный психолог, – только что слюной сейчас от злости не брызгал.
– Я всю жизнь от них страдаю. За время работы приходится часто с ними сталкиваться. Но, слава богу, состав экспедиции я утверждаю по своему усмотрению и таких вычеркиваю сразу. Вот только ты, исключение, просочился.
– Извините, что испачкал Вам жизнь, – обрадовался Голицын.
Александров потряс в воздухе бутылкой.
– Предлагаю выпить за высшее образование, каким бы низшим…
– Нет, давай-ка отложим это на вечер, – сказал Покровский, – а то нас после такого перехода срубит. А нам еще копать.
До места раскопок исследователи, немного разомлевшие от коньяка, спускались по веревке, которую Латыш привязал к дереву. Хотя берег, срезанный оползнем, был достаточно пологий, преодолеть склон высотой пятнадцать метров, да еще с инвентарём, было не так-то просто. Ещё наверху Покровский объяснил задачу: искать всё, связанное с деятельностью человека, особенно образцы для радиографа – любую органику.
Когда группа оказалась перед загадочным строением, то даже невозмутимый Голицын потерял дар речи. Тишина воцарилась над древней рекой. До верхушек столетних сосен доносился только шум воды и тихий мат Олеси. Первым очнулся академик.
– Видел я мегалиты в Мексике, но такое…
Камни, из которых была сложена стена, были огромны. Каждый блок достигал метра в высоту, около двух метров в длину и около метра в глубину. Но поражало не это. Издалека камни казались чёрными. На самом деле их глянцевая, отполированная до зеркального блеска поверхность переливалась всеми оттенками зеленого цвета. Грани их были настолько ровные, а форма настолько правильная, что всё сооружение напоминало конструктор, сложенный из штампованных на заводе прямоугольников.
– Это что, малахит? – простонала восхищённая Олеся.
– Это не малахит, – промолвил Латыш, – это…
Он потер край блока пальцем, рассмотрел его грань через электронную лупу и понюхал.
– Это, друзья мои, серпентинит.
– Что-то знакомое, – наморщил лоб Покровский.
– Сторонники нетрадиционных теорий приписывают серпентиниту способность исцелять чуть ли не все болезни, – сообщил Латыш, – Из подтвержденных наукой свойств серпентинит обладает некоторым антисептическим действием, широко используется как отделочный и декоративный материал, на атомных электростанциях его применяют для защиты от ионизирующего излучения.
– Так это аптекарский камень! – воскликнул Александров.
– Он самый, – кивнул Латыш.
– Товарищи, это же уникальный минерал, – академик обхватил целебную глыбу обеими руками, – он лечит от всего на свете! От депрессии, от простуды, от давления, от сглаза, от кармических блоков. И вообще, поднимает настроение, снижает сахар…
– Геморрой забыл добавить, – поморщился Латыш. – А вот мне непонятно, как такие дуры припёрли с Урала. Разве что на вертолётах…
– То есть ты считаешь, что это современная постройка? – переспросил Покровский.
– Вне всякого сомнения, – ответил Латыш. – Блоки подобного размера можно так идеально обработать и тем более доставить только на современном оборудовании.
– А почему она тогда у самой воды?! – не унимался Александров.
– Давайте всё-таки действовать по протоколу, – перебил его Покровский. – Наша цель – органика. Оставим стену и её происхождение геологам, а сами примемся за обработку грунта.
Ученые распределились по участку протяженностью около пятидесяти метров и принялись расчищать от вековой глины таинственное строение. Работали особенными телескопическими вибролопатками. В сложенном состоянии такие лопатки легко помещались в рюкзаках, а в разложенном подстраивались под любой рост и вибрировали при надавливании, что позволяло с лёгкостью прорезать самый твёрдый грунт.
Каждый был увлечен, просеивая землю на своём участке. Никто, кроме Покровского, не заметил, что психолог в самый разгар работы отлучился минут на десять. Это не показалось бы Покровскому странным (Олеся тоже пару раз поднималась на берег по своей женской надобности), если бы Голицын не прихватил с собой рюкзачок. Покровский давно предполагал, что чекист должен был как-то оповещать своих хозяев о результатах работы группы. Возможно, в рюкзаке у него была портативная радиостанция. Но проследить за психологом он не рискнул и оставил это для более подходящего случая. Если его предположения верны, то после получения данных о возрасте находок, Голицын обязан был ещё раз выйти на связь.
Через несколько часов, когда солнечный диск коснулся края земли, напоминая, что пора ужинать, Александров неслышно подошел к Покровскому. Лицо его было возбуждённым.
– Надо отвлечь психолога! – прошептал он.
Голицын, взгромоздившийся на каменную кладку, делал вид, что пишет. Но один его глаз то и дело поглядывал поверх красного блокнотика на окружающую обстановку, удерживая всю группу в поле зрения. Покровский взял небольшой камешек и кинул в Олесю, которая вместе с Латышом исследовала грунт метрах в двадцати от него. Олеся повернула голову. Покровский жестом подозвал её к себе.
– Олеся, срочно отвлеки Голицына, – тихо попросил Александров, когда раскрасневшаяся от усталости Олеся подошла.
– Как? – растерялась Олеся.
– Не знаю, – с выпученными глазами прошипел академик, – но срочно!
– Кто поможет даме спуститься к воде? – испуганно крикнула Олеся.
– А что случилось? – крикнул Латыш.
– Чего, чего, руки вымыть хочу!
– Я помогу! – тут же среагировал Голицын.
– Ну рискни, – мрачно ответила Олеся, и они с Голицыным стали спускаться по крутому берегу, поддерживая друг друга.
Александров, сияя от восторга, подозвал Латыша.
– Глядите! – торжественно произнёс он и показал небольшой камешек причудливой формы.
-Трилобит… – прошептал Покровский.
– Ну и что! – сказал Латыш. – Их здесь сотни. Это же слой ордовика. Вследствие вспучивания почв слой оказался на поверхности, поэтому членистоногие, жившие четыреста пятьдесят миллионов лет назад, тоже оказались на поверхности.
– Да, только он лежит не на поверхности. Там в стене небольшая ниша…
– И что?
– И то, что если бы он лежал рядом со стеной, это означало, что эту стену могли построить совсем недавно рядом с дохлым трилобитом. А если трилобит внутри стены, то он мог туда только… заползти.
– Бред! – недовольно отозвался Латыш о теории Александрова. – Дохлого трилобита мог положить в нишу рабочий, строивший стену пару месяцев назад.
– Теоретически мог, только зачем?
– Да зачем угодно! И это более здравое объяснение, чем то, что трилобит заполз в стену, построенную кем-то до появления динозавров.

