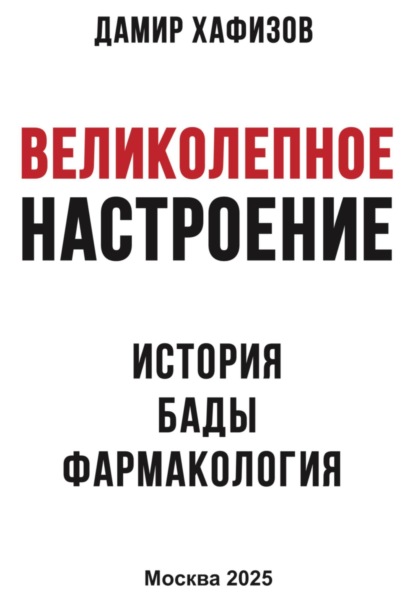
Полная версия:
Великолепное настроение. История, бады, фармакология
Некоторые воинственные племена, особенно в Африке, редко убивают своих новорожденных, а кое-какие из сравнительно мирных делают это регулярно. Название фундаментального труда Милнера восходит к словам отца антропологии Эдварда Тейлора, который еще в XIX в. писал: «Инфантицид – следствие жестокости жизни, а не жестокости сердец».
Критическая точка в выборе между сохранением или убийством ребенка устанавливается как личными чувствами, так и культурными нормами. Наша культура благоговеет перед чудом рождения и идет на любые усилия, чтобы помочь ребенку выжить. Мы уверены, что радостная связь между матерью и младенцем почти инстинктивна. В действительности установление такой связи требует преодоления значительных психологических препятствий. В I в. Плутарх указывал на неприятную истину:
Ведь нет ничего столь несовершенного, столь беспомощного, голого, столь бесформенного и грязного, как человек при своем рождении, ибо ему, как можно было бы сказать, природа не дала даже чистого пути к свету; оскверненный кровью и покрытый грязью, более напоминающий убитого, чем только что рожденного, он – предмет, которого не желал бы ни коснуться, ни поднять, ни поцеловать, ни обнять никто, кроме любящего его природной, естественной любовью.
«Родительская любовь» далека от спонтанной. Дэйли и Уилсон, а позже и антрополог Эдвард Хаген, предположили, что послеродовая депрессия и ее более мягкая версия, подавленность
…
«Детская дискриминация»:
Убийства младенцев-девочек сегодня попали в центр внимания благодаря данным переписей населения, которые обнаружили в развивающемся мире огромный дефицит женщин. «Исчезнувшие сто миллионов» – так чаще всего говорят о недостаче дочерей, особенно заметной в Индии и Китае. Азиатские семьи часто отмечены нездоровым пристрастием к сыновьям. В некоторых странах беременная женщина может пройти амниоцентез или УЗИ-обследование и сделать легальный аборт, если беременна девочкой. Такой высокотехнологичный подход может создать впечатление, что дефицит девочек – это современная проблема, но убийства младенцев женского пола практиковались в Китае и Индии на протяжении 2000 лет. Китайские акушерки держали у кровати ведро с водой, чтобы утопить новорожденную. В Индии были свои способы: «дать пилюлю из табака и гашиша, заставить захлебнуться молоком, смазать грудь матери опиумом или соком ядовитого дурмана, залепить рот и нос девочки коровьим навозом, чтобы она задохнулась». И тогда, и сейчас, даже если девочка умудрялась выжить, ее шансы дожить до зрелости были невысоки. Родители отдают большую часть еды мальчикам, и, как рассказывал китайский врач, «если заболевает сын, родители тут же отправляют его в больницу, а если заболевает дочь, родители обычно говорят друг другу: „Ну что же, подождем до завтра, посмотрим, как она будет себя чувствовать“».
Убийство девочек, которое также называют фемицидом, не ограничивается Азией. Живущие в Амазонии яномамо – одно из множества племен охотников-собирателей, которые предпочитают убивать девочек. В Древней Греции и Риме детей «выбрасывали в реки, навозные кучи и выгребные ямы, оставляли умирать от голода, бросали в глуши на волю стихий и диких зверей». В Европе инфантицид был распространен в Средние века и в эпоху Возрождения. И везде девочек убивали чаще, чем мальчиков. Часто семьи убивали всех девочек, пока не родится мальчик; дочерей, рожденных после него, оставляли жить.
…
Поразмышляйте над воспоминаниями человека, чья семья в 1846 г. добиралась с группой поселенцев из Калифорнии в Орегон. По пути они наткнулись на брошенную восьмилетнюю индейскую девочку, голодную, раздетую, покрытую ранами и нарывами.
Мужчины собрались, чтобы решить, как с ней поступать. Мой отец хотел взять ребенка с собой, остальные предлагали убить ее, тем самым положив конец ее мукам. Отец сказал, что это будет умышленное убийство. Голосованием было решено не делать ничего, но оставить девочку там, где нашли. Моя мать и тетка не хотели бросать эту малышку на произвол судьбы. Они задержались, чтобы помочь ей. Когда они наконец догнали нас, их глаза были полны слез. Мать рассказывала, что она встала на колени рядом с девочкой и просила Господа позаботиться о ней. Один из молодых парней, присматривавших за лошадьми, так переживал из-за того, что приходится бросить девочку, что вернулся и выстрелил ей в голову, чтобы избавить от мучений.
…
Как пишет один историк, младенцев в Средние века бросали на погибель «в огромных количествах и абсолютно безнаказанно, а современники писали об этом с самым холодным равнодушием. Милнер приводит данные регистрации рождений, из которых видно, что в богатых семьях в среднем регистрировалось 5,1 рождения, в семьях среднего класса – 2,9, а у бедняков – 1,8, добавляя: «Нет оснований полагать, что количество беременностей было таким же». В 1527 г. французский священник писал: «Отхожие места полнятся криками детей, которых туда выбросили».
…
И как всегда, когда дело касалось наказаний, люди прилагали все способности к изобретению технологий, которые могут дать человеку настолько неприятный опыт, насколько это вообще возможно. Демос пишет о средневековой Европе:
То, что детей, в которых вселился бес, нужно лупить, считалось само собой разумеющимся. Для этой цели существовало множество инструментов: от плетки-девятихвостки, розог и лопат до тростниковых лоз, железных прутьев и хворостин, кнутов и бичей (сплетенных из металлических звеньев), стрекал (заостренных палок, которыми кололи руки или голову ребенка) и специальных школьных инструментов вроде круглой колотушки с отверстием, которой наставляли волдыри. Порки, описываемые в источниках, почти всегда были жестокими, до синяков и до крови, начинались они во младенчестве, обычно имели эротический подтекст, поскольку удары наносились по обнаженным частям тела вблизи гениталий, и являлись обычной частью повседневной жизни ребенка.
Суровые телесные наказания столетиями были обычным делом. В одном исследовании обосновывалось мнение, что во второй половине XVIII в. всех без исключения американских детей били палками, плетьми или чем-нибудь еще. Дети подлежали наказанию и со стороны закона; в недавно изданной биографии Сэмюэла Джонсона между делом упоминается, как в Англии в XVIII в. повесили семилетнюю девочку за кражу нижней юбки. Немецких детей даже на рубеже XX в. «регулярно сажали на горячую железную плиту за упрямство, привязывали к кровати на несколько дней, бросали в ледяную воду или снег, чтобы „закалить“, и каждый день заставляли часами стоять на коленях на деревянном чурбаке, пока их родители ели или читали». Приучая детей к туалету, многих мучили клизмами, а в школах учеников «пороли, пока не слезет кожа».
Жестоким обращением отличилась не только Европа. Порки детей описаны в Древнем Египте, Шумере, Вавилоне, Персии, Греции, Риме, Китае и у мексиканских ацтеков, которые били детей «ветками с колючими шипами, связывали им руки и пороли острыми листьями агавы и плетками, а также держали над огнем из высушенного острого перца, заставляя вдыхать едкий дым». Демос пишет, что маленьких японцев даже в XX в. «жестоко избивали, поджигали благовония на их коже, приучали к горшку постоянными клизмами… пинали, подвешивали за ноги, заталкивали под ледяной душ, душили, втыкали иголки в тело, отрезали суставы пальцев». (Будучи не только историком, но и психоаналитиком, Демос собрал достаточно материала, которым можно объяснить зверства Второй мировой войны.)
Детей подвергали и психологическим пыткам. Даже сказки постоянно напоминали им, что родители могут их бросить, приемные родители – мучить, а сказочные монстры или дикие звери – покалечить. Сказки братьев Гримм не единственный пример детской литературы, рассказывающей о бедах, которые могут обрушиться на непослушного или беспечного ребенка. Английских младенцев, например, убаюкивали песенкой о Наполеоне:
Вот он скачет мимо дома!Тише, тише, мой малыш.Если он тебя услышит,Разорвет, как кошка мышь.Будет бить тебя жестоко,Бить до крови, карапуз!Ручки-ножки оторветИ сожрет их, хрусь-хрусь-хрусь!…
Из книги Пинкера «Просвещение продолжается»:
Еще один исчезающий тип насилия в отношении детей – это телесные наказания: порка, взбучка, шлепки, тычки, побои, розги, подзатыльники и другие примитивные методы модификации поведения, которыми родители и учителя мучили беспомощных подопечных как минимум с VII века до н. э., когда в ветхозаветной Книге Притчей Соломоновых был дан такой совет: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». К настоящему времени телесные наказания осуждены в нескольких резолюциях ООН и запрещены законом в более чем половине стран мира. И в этом тоже США – исключение среди развитых демократий: в американских школах детей до сих пор позволяется лупить специальным «паддлом», однако даже тут уровень одобрения всех видов телесных наказаний медленно, но верно снижается.
Образ девятилетнего Оливера Твиста, приставленного щипать паклю из старых просмоленных канатов в английском работном доме, дает нам некоторое представление об одной из самых распространенных форм жестокого обращения с детьми – детском труде. Роман Диккенса, как и написанная в 1843 году поэма Элизабет Барретт Браунинг «Плач детей», и множество журналистских текстов заставили читателей XIX века осознать ужасающие условия, в которых в ту эпоху заставляли работать детей. Малыши стояли на ящиках, обслуживая опасные механизмы на фабриках, в шахтах и на консервных заводах; они дышали воздухом, полным хлопковой или угольной пыли; им не давали заснуть, брызгая холодной водой в лицо; а после изнурительных смен они проваливались в сон, не успев даже проглотить свой ужин.
Но ужасы детского труда начались не на викторианских мануфактурах. Детей всегда заставляли работать в полях и по дому и часто отдавали в прислугу к чужим людям или в подмастерья к ремесленникам – чуть ли не сразу, как они начинали ходить. В XVII веке ребенок, приставленный к кухонной работе, мог часами крутить ручку вертела с нанизанным на него куском мяса, притом что от огня его защищала лишь охапка мокрого сена. Никто не воспринимал детский труд как эксплуатацию; это была форма нравственного воспитания, спасавшая ребенка от праздности и лени.
…
Движение за увеличение ценности жизни ребенка в последние 200 лет – одно из величайших моральных достижений в истории. Но движение последних двух десятилетий по увеличению этой ценности до бесконечности может привести лишь к абсурду.
…
Вряд ли кто-то захочет сегодня смотреть, как на костре сжигают кота, – не говоря уже о мужчине или женщине. Этим мы отличаемся от наших предков, живших несколько столетий назад, которые оправдывали пытки, применяли их и даже наслаждались, наблюдая агонию других живых существ. Что чувствовали они? И почему мы не чувствуем этого сегодня?
Война
Пинкер «Просвящение продолжается». О взглядах на войну в прошлом:
Сегодня сама мысль, что убивать и калечить людей, разрушать дороги, мосты, фермы, жилища, школы и больницы – безусловно благородное занятие, кажется нам бредом сумасшедшего. Но в период контрпросвещения XIX века считалось именно так. Романтический милитаризм становился все более популярным не только среди офицеров в остроконечных касках, но и среди творцов и интеллектуалов. Война «расширяет умственный горизонт народа, возвышает его чувства», писал Алексис де Токвиль. Война – это «сама жизнь», говорил Эмиль Золя. «Война есть основа всех искусств… [и] всех возвышенных добродетелей и способностей человека», – утверждал Джон Рёскин.
…
Наше начало. Наивно предполагать, что охотники собиратели жили в раю. Пинкер «Лучшее в нас»:
Многие ученые считают образ безобидных собирателей вполне правдоподобным, потому что им трудно вообразить цели и мотивы, которые могли бы подтолкнуть первобытных людей к войне. Вспомните, например, утверждение Экхардта, что у охотников-собирателей «было мало причин для раздоров». Но у существ, появившихся в результате естественного отбора, всегда есть причины воевать (что, конечно, не значит, что они всегда будут это делать). Гоббс писал, что у людей, в частности, есть три причины для войны: нажива, безопасность и убедительное сдерживание. Люди в догосударственных обществах воюют по всем трем причинам.
Собиратели могут воевать из-за территории – охотничьих угодий, источников воды, берегов и устьев рек, месторождений ценных минералов вроде кремния, обсидиана, соли или охры.
Они могут угонять скот или воровать заготовленную пищу. И очень часто они воюют из-за женщин. Мужчины могут захватить соседнюю деревню с единственной целью – увести женщин, которых они будут по очереди насиловать и поделят в качестве жен. Они могут напасть по какой-то другой причине и забрать женщин как «бонус» или потребовать женщин, обещанных им в жены, но не доставленных в условленное время. Молодые мужчины порой воюют ради трофеев, славы и других знаков удали, особенно если по их обычаям это необходимо для получения статуса взрослого.
Люди в догосударственных обществах также нападают ради безопасности. Дилемма безопасности, или гоббсовская ловушка, не дает им покоя: если их заставляет беспокоиться их малочисленность, они заключают союзы с соседними деревнями, а если видят, что вражеский альянс слишком разросся, наносят упреждающие удары. Воин яномамо как-то сказал антропологу: «Мы устали воевать. Мы больше не хотим убивать. Но враги коварны, и доверять им нельзя».
Но самый распространенный мотив военных действий – это месть, которая служит нехитрой политикой сдерживания потенциальных врагов, повышая ожидаемые ими издержки будущих атак. Ахилл в «Илиаде» описывает психологическую черту, свойственную людям всех культур: гнев «в зарождении сладостней тихо струящегося меда, скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает!». Племена мстили за грабеж, измену, вандализм, браконьерство, похищение женщин, предполагаемое колдовство, сорванные сделки и предыдущие акты насилия. В одном кросс-культурном исследовании выяснилось, что в 95 % обществ люди полностью поддерживают идею «жизнь за жизнь». Племенные народности не только чувствуют, как пламенный дым возрастает в груди, но и твердо знают, что их враги ощущают то же самое. Вот почему они иногда убивают всех до единого жителей вражеской деревни, понимая, что любой выживший захочет отомстить за погибших родственников.
…
Мужчины в догосударственных обществах (а это практически всегда мужчины) относятся к войне предельно серьезно – и в вопросах тактики, и в том, что касается вооружений. Они изготавливают химическое, биологическое и осколочное оружие. Они мажут наконечники стрел ядами, добытыми из ядовитых животных, втыкают их в тухлое мясо, чтобы рана загноилась. Наконечники прикрепляют к древку так, чтобы оно легко отламывалось, – тогда жертва не сможет вытащить острие. Воины часто вознаграждают себя трофеями – головами, скальпами и гениталиями врагов. Они не берут пленных, хотя иногда могут притащить одного в деревню и запытать до смерти. Уильям Брэдфорд, один из прибывших на «Мэйфлауэре» «Мэйфлауэре» колонистов, писал о коренных жителях Массачусетса: «Не довольствуясь умерщвлением врага, они с наслаждением подвергают его кровавым пыткам, как то: с живых сдирают кожу острыми раковинами, отрезают понемногу конечности, поджаривают их на углях и поедают на глазах у жертвы».
Хотя нам неловко читать, как европейские колонисты называют аборигенов «дикарями», и мы справедливо обвиняем их в лицемерии и расизме, такие рассказы о зверствах местного населения – не выдумка. Существует множество свидетельств ужасающей жестокости племенных войн. В 1930-х гг. одно из племен группы яномамо, живущее в дождевых лесах Венесуэлы, похитило Хелену Валеро. Вот что она впоследствии рассказывала об одном из налетов:
Тем временем со всех сторон прибывали захваченные женщины с детьми… Мужчины начали убивать детей; маленьких, побольше, они убили их множество. Дети пытались бежать, но их ловили, бросали на землю и убивали из луков, пришпиливая стрелами к земле. Взяв самых маленьких за ножки, они били их о деревья и камни… Все женщины плакали.
В начале XIX в. английский каторжник Уильям Бакли сбежал из австралийской тюрьмы и три десятилетия безбедно прожил в племени аборигенов ватаурунг. Он оставил свидетельства об их образе жизни, в том числе о военных обычаях: Приблизившись к расположению врага, они спрятались и лежали в засаде, пока все не утихло. Дождавшись, когда большинство вражеских воинов уляжется группами там и сям и уснет, наши налетели на них, нескольких ранили, а троих убили на месте. Враг стремительно бежал, оставив оружие и амуницию в руках противника, бросив раненых, которых добили бумерангами. Три громких вопля увенчали триумф победителей. Тела убитых они ужасно изуродовали, отрезав им руки и ноги острыми камнями, ракушками и томагавками.
Когда женщины увидели, что их мужчины возвращаются с победой, они тоже подняли громкий крик, вытанцовывая в диком экстазе. Мертвые тела бросили на землю и принялись бить палками – люди, казалось, свихнулись от возбуждения.
О подобных случаях свидетельствовали не только жившие среди туземцев европейцы, но и сами аборигены. Роберт Насрук Кливленд из эскимосского племени инупиатов в 1965 г. вспоминал:
На следующее утро налетчики атаковали лагерь и убили всех остававшихся там женщин и детей… В вагины убитых женщин они затолкали нельму, а потом пришедшие из Ноатаки взяли Кититигаагваат и ее ребенка и отступили к верховьям реки Ноатак… Почти дойдя до деревни, они изнасиловали Кититигаагваат и бросили ее и ребенка умирать…
Несколько недель спустя охотники на карибу карибу из Кобука вернулись домой, нашли разлагающиеся останки своих жен и детей и поклялись отомстить. Через год или два они отправились на север в верховья Ноатак в поисках врага. Вскоре они наткнулись на большую группу нуатаагмиутов и тайно последовали за ними. Однажды утром люди из лагеря нуатаагмиутов заметили большое стадо карибу и бросились в погоню. Пока они отсутствовали, налетчики из Кобука убили всех женщин в лагере. Они отрезали им гениталии, нанизали на веревку и быстро направились в обратный путь.
…
Пинкер дает ответ, почему силовики у власти во многих странах:
Правление во времена первых государств было больше похоже на бандитское «крышевание»: могущественные мафиози экспроприировали ресурсы местных жителей в обмен на защиту их от враждебных соседей и друг от друга. В этих условиях снижение насилия было на руку и господам, и подданным. Как фермер заботится, чтобы его животные не поубивали друг друга, так и правитель будет стараться удержать подданных от распрей и взаимных налетов. Подданные сводят счеты, имущество переходит из рук в руки, но, с точки зрения правителей, все это – чистые убытки.
Ничего не поменялось: вас крышуют (полиция) вы платите дань (налоги).
…
Три основные причины войны:
Логика насилия в приложении к представителям разумного вида возвращает нас к Гоббсу. В важном отрывке из «Левиафана» (1651) ему не понадобилось и сотни слов, чтобы проанализировать склонность людей к насилию, и анализ этот ни в чем не уступает любому современному:
Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы. Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей и скота; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения непосредственно по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имени{14}[63].
Гоббс считал соперничество неизбежным следствием того, что все стороны преследуют свои интересы. К настоящему времени мы убедились, что соперничество встроено в эволюционный процесс.
Соперничество, это наша природа.
Пинкер ссылается на Докинза:
Почему живые существа развивают в себе способность вредить другим живым существам? Ответ не так прямолинеен, как следует из фразы «выживают наиболее приспособленные». В книге «Эгоистичный ген» (The Selfish Gene) Ричард Докинз, объясняя современную синтетическую теорию эволюционной биологии, генетики и теории игр, пытается избавить читателей от бездумно-привычных представлений о живом мире. Он предлагает воспринимать животных как созданные генами (единственной сущностью, которая исправно воспроизводится в процессе эволюции) «машины выживания» и поразмыслить, как бы они эволюционировали. Для любой машины выживания другая такая машина (если это не ее собственный детеныш или близкий родственник) составляет часть ее среды обитания, подобно горе, реке или чему-то съедобному. Это нечто, преграждающее путь, или нечто, что можно использовать. От горы или реки такая машина выживания отличается одним: она склонна давать сдачи. Такое поведение объясняется тем, что эта другая машина также содержит свои бессмертные гены, которые она должна сохранить во имя будущего, и тем, что она также не остановится ни перед чем, чтобы сохранить их. Естественный отбор благоприятствует тем генам, которые управляют своими машинами выживания таким образом, чтобы те как можно лучше использовали свою среду. Сюда входит и наилучшее использование других машин выживания, относящихся как к собственному, так и к другим видам.
…
Пинкер «Просвещение продолжается». Просто вдумайтесь в эти слова:
На протяжении большей части истории человечества войны были привычным занятием государств, а мир представлял собой не более чем передышку между столкновениями.
…
Знаете ли вы о самых кровопролитных событиях в истории человечества? Объясняет Пинкер, книга «Лучшее в нас»:
Во-первых, если по сравнению с предыдущими столетиями в XX в. было, несомненно, больше насильственных смертей, то в нем и людей было больше. В 1950 г. население Земли составляло 2,5 млрд человек – это примерно в 2,5 раза больше, чем в 1800 г., в 4,5 раза больше, чем в 1600-м, в 7 раз больше, чем в 1300-м и в 15 в раз больше, чем в 1 г. н. э. Поэтому, чтобы сравнить, например, кровопролитность войн XVII и XX вв., число погибших в 1600 г. нужно умножить на 4,5.
Вторая причина – историческая близорукость: чем ближе к нам во времени какой-либо исторический эпизод, тем больше деталей мы можем разглядеть. Историческая близорукость может влиять и на общественное мнение, и на выводы профессиональных историков. Когнитивные психологи Амос Тверски и Даниэль Канеман показали, что люди интуитивно оценивают сравнительную частоту явлений сквозь призму так называемой эвристики доступности: чем легче вспомнить примеры явления, тем более вероятным оно кажется. Люди, например, переоценивают вероятность бедствий, о которых кричат газетные заголовки, – авиакатастроф, нападений акул и террористических атак – и недооценивают вероятность опасностей, о которых никто не пишет, вроде ударов током, падений и утоплений. Рассуждая об интенсивности убийств в разные века, любой, не владеющий цифрами, склонен переоценивать те конфликты, которые ближе к нему во времени, лучше изучены или о которых чаще говорят. Исследуя историческую память, я попросил сотню пользователей интернета назвать за пять минут как можно больше известных им войн. Чаще всего в ответах фигурировали две мировые войны, войны, в которых участвовали США и недавние войны. Хотя больше всего войн, как мы увидим, случилось в более отдаленном прошлом, люди лучше помнят те, что велись недавно.
Делая поправку на эвристику доступности и резкий рост населения Земли в XX в., углубляясь в исторические книги и масштабируя уровень смертей в соответствии с числом жителей в конкретный период, мы обнаруживаем огромное количество войн и кровопролитий, которые могут дать фору чудовищным преступлениям XX столетия. Таблица ниже воспроизводит список, составленный Мэттью Уайтом и озаглавленный «Двадцать (или около того) наихудших (вероятно) вещей, которые люди устраивали друг другу». Количество жертв здесь взято как мода (Мода (в статистике) – значение переменной, которое наиболее часто встречается во множестве наблюдений. – Прим. пер.) или медианное значение чисел, приводимых в большинстве исторических работ и энциклопедий. Учитываются не только прямые военные потери, но и гибель гражданского населения от голода и болезней, значительно превышающая показатели боевых потерь, что верно и для давних, и для недавних событий. Я добавил колонку, в которой показано, каким было бы число жертв, если бы численность человечества в названный период была такой же, как в середине XX в., и еще одну, с соответственно уточненным рейтингом.



