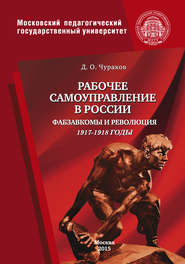 Полная версия
Полная версияРабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы
В протоколах завкома Тульского патронного завода запечатлён один из случаев, иллюстрирующих характер начавшегося процесса и отношение к нему на местах. 22 февраля 1918 г. завком обсуждал доклад своего представителя Давыдова о его последней поездке «в город Царицын за топливом». Для завкома в Царицине были заготовлены 160 цистерн нефти. «Но главная задача, – сетовал Давыдов, – нет паровоза». Причиной его отсутствия было бездействие центральных властей. Тульский патронный завод оказался перед угрозой приостановки работ из-за бюрократического беспорядка на транспорте, когда железные дороги подчинялись чиновникам в Москве и не желали принимать в расчёт нужды местных предприятий. Центральная власть была не в состоянии обслужить нужды заводчан и, по мнению рабочих завода, оставляла «единственный выход – по примеру других заводов заарендовать в Москве специальный паровоз», но уже на свой страх и риск230. На этом же заседании говорили и о предшествующем случае, который давал рабочим повод выражать недоверие центральным экономическим властям и новым порядкам. Давыдов, продолжая свой доклад, остановился на том, что ему уже приходилось сталкиваться с последствиями чиновничьего произвола. В одной из прежних поездок ему отказали в получении топлива, причиной же отказа стала ведомственная разобщённость и царившая неразбериха в организации вопросов снабжения центральными российскими властями. В результате огромный завод оказался без нефти «вследствие отсутствия», как записано в протоколах завкома, у его представителя «нарядов от вновь установленного органа Совета народного хозяйства, а имевшиеся у него районные наряды потеряли законное значение»231. Как мы видели выше, до Октября завком ТПЗ вполне справлялся с обеспечением своего предприятия топливом, налаживая прямые связи с местами его производства и переработки, теперь же, чтобы получить в Царицыне нефть, завкому нужно было сперва обращаться в Москву за нарядами «от вновь установленных органов», а потом уже искать нефть. Поскольку в прениях рабочие ТПЗ ссылаются на другие заводы, печальный опыт результатов «централизованного государственного регулирования социалистической экономикой» имелся не только на патронном, но и на других заводах Тулы. Прежде всего в подобных факторах и следует искать причины растущего недовольства рабочих Тулы своим положением, наметившегося весной 1918 г., а вовсе не в меньшевистском влиянии и прежней «прикормленности царизмом», на чём натаивал один из авторов журнала «Рабочий контроль»232.
Похожим образом складывались дела не только у металлистов Тулы, но и у текстильщиков Иваново-Вознесенска, начинавших всё отчётливее воспринимать новые тенденции в политике центральных властей как опасные и вредные для рабочего самоуправления. На прошедшем в конце февраля 1918 г. в Москве совещании представителей рабочего контроля Иваново-Кинешемской области это вскрылось, в частности, в отношении «Центроткани», «которая своим отношением часто тормозит дело», а именно не даёт трудовым коллективам самостоятельно решать вопросы сбыта продукции. Как было рассказано корреспонденту «Правды», по итогам осмотра рабочими складов своих мануфактур в Иваново-Кинешемском районе положение с затовариванием готовой продукции было прямо-таки «ошеломляющим». Особенно взрывоопасная ситуация складывалась из-за бюрократизма чиновников от «Центроткани» на фабриках Вичугского района, а в самом Иваново-Вознесенске на фабриках Горелина и товарищества Тверской мануфактуры, где продукция попросту гнила, в то время как «народ до нитки обносился и негде и не на что купить ситцу»233. Как писал один корреспондент иваново-вознесенской газеты: «Нам часто приходилось встречать представителей фабричных комитетов фабрик, находившихся в 20 верстах от Москвы, которые обивают пороги в Московском хлопковом комитете, разыскивая хлопок, и в то же время под боком, в той же
Москве имеются громадные склады, набитые хлопком». И такая ситуация, отмечается в статье, складывается не только в столице с её мощной армией управленцев, но и в провинции: Нижнем Новгороде, Ярославле, Костроме, Рыбинске, Кинешме234.
Аналогичным образом разрасталось воздействие политики огосударствления и на другие виды деятельности фабзавкомов. Вскоре после январского профсъезда, в исполнение звучавших на нём требований, регулирование рынком рабочей силы передаётся в ведение государства235. В § 16 «Положения о бирже труда» было чётко оговорено: «Наём рабочих и служащих производится только через биржу труда»236. С переходом контроля над наймом и увольнением к государственным учреждениям фабзавкомы лишаются одного из своих важнейших завоеваний. Тарифная компания и обострение экономического кризиса приводят к вытеснению фабзавкомов из области контроля за размером заработной платы. С лета 1918 г. вопросы определения тарифов по заработной плате сосредотачиваются в центре237. Теперь приоритет в этой области отдаётся Наркомтруду238, профсоюзам и местным государственным органам, таким, как Комиссариат труда Московского промышленного района или Воронежский губернский комиссариат труда. Причём вмешательство государства, как это ни покажется странно в свете имеющихся представлений о рабочей политике большевиков, нередко было направлено против повышения заработной платы, в том числе в даже частной промышленности239. Делалось это для того, чтобы исключить резкие колебания заработной платы на предприятиях одной отросли. Предполагалось, что разница в зарплатах разрушает классовую солидарность и классовое единство, – сомнительная идея, продиктованная уравнительными настроениями той эпохи и проникшая даже во властные структуры. Постепенно сводится на нет и самое первое завоевание фабзавкомов: в Советской России под предлогом революционной сознательности начинает всё больше игнорироваться 8-часовой рабочий день.
О растущем подчинении органов рабочего самоуправления красноречиво говорит и тот факт, что в принимаемых документах, регламентирующих права фабзавкомов, содержатся такие нормы, которые прежде, в первые недели после Октября, были бы просто немыслимы. В них вносили такие типовые положения, как это видно хотя бы на примере широко растиражированного и повторённого
Устава металлообрабатывающих предприятий, как недопустимость рабочих собраний и деятельности органов рабочего контроля в рабочее время240. Если раньше циркуляры Временного правительства, содержавшие подобные требования, привели к беспорядкам на многих предприятиях той же металлообрабатывающей промышленности, а также кожевников, текстильщиков и других отрядов рабочих ЦПР, то теперь подобные нормы были как бы в порядке вещей.
Самым ярким примером того, как вмешательство государства в прерогативы органов рабочего самоуправления сказывалось не только на ограничении их прав, но и меняло сам характер низовых рабочих организаций как органов гражданского общества, может служить деятельность фабзавкомов по наведению трудовой самодисциплины. Борьба за дисциплину в период между февралём и октябрём, а также сразу после Октября воспринималась самими рабочими как проявление их «классовой сознательности» и отсутствия у них «классового эгоизма»241. Отсюда меры по наведению порядка в цехах зачастую носили исключительно моральный характер, как это в своё время было и в крестьянской общине. Так, экономический отдел Подольского Совета в январе 1918 г. постановил: «за недобросовестное отношение к труду подействовать… морально посредством контрольной комиссии»242, а на Куваевской мануфактуре в Иваново-Вознесенской губернии было решено: «что касается тех товарищей, которые по своей малосознательности не хотят выполнять ту работу, которая на них возложена, то на них постараемся воздействовать нравственным путём, то есть посредством увещаний»243. Часто только лишь злостное нарушение влекло за собой уже более ощутимые санкции, такие, как штрафы, увольнения, изъятия из зарплаты244.
Но постепенно «насаждение», как тогда говорили, трудовой дисциплины всё больше принимает форму борьбы с так называемой «митинговой демократией». Причём под «митинговой демократией» теперь понимали любое проявление рабочими их самостоятельности. То, что несколько месяцев назад провозглашали «революционной активностью класса-гегимона», становилось для победившего режима лишним и даже опасным. Центром борьбы за дисциплину труда в её новом понимании становится ВСНХ245.
Уже 27 марта 1918 г. на заседании его Президиума в этой связи возникает и вопрос о трудовой принудительной дисциплине для пролетариата246. Но на этом заседании соответствующие решения не прошли. Против выступил В. И. Ленин, чувствовавший, что большевики пока не осилят введение принудительной дисциплины в достаточно массовом масштабе. Тогда он и предложил осуществлять принудительные меры под прикрытием борьбы за «рабочую дисциплину» руками самих рабочих247. Характерно, что в борьбе за достижение этого Ленин предлагал полагаться не на традиции российской рабочей демократии, а на нормы подавления рабочих, выработанные эволюцией капиталистической фабрики. Разработку норм «трудовой дисциплины» он думал поручить прежним владельцам, научившимся «внедрять» порядок и дисциплину на своих предприятиях ещё при царском режиме248.
Возвращался Президиум ВСНХ к проблемам рабочей дисциплины и позже. Так, на заседании 1 апреля 1918 г., когда шло обсуждение Положения о трудовой дисциплине, подготовленного Всероссийским Советом профсоюзов, В. И. Ленин требовал ужесточения его в плане «карательных мер» за «несоблюдение» рабочими «трудовой дисциплины». Обращаясь к членам Президиума, он разъяснял: «Что же касается мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходима кара вплоть до тюремного заключения. Увольнение с завода также может применяться, но характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же при нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена определённая кара»249. Причём подобные меры предлагались Лениным ещё в середине декабря 1917 г., когда он для учёта количества и качества труда настаивал на создании судов из рабочих и крестьян250.
Эти «ленинские наказы» не оказались пустым звуком. На фабрике т-ва Полушина рассчитанных рабочих передавали суду как за уголовное преступление251. Рассматривал рабочий суд дела рабочих, «которые работали недобросовестно» и на заводе Густава Листа252, на многих прочих предприятиях Московского региона. Что же касается общей линии на «завинчивание гаек», то хорошим примером здесь могут служить «Правила трудовой дисциплины», принятые на прошедшей 17 июня 1918 г. общегородской конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Твери.
В них делалась попытка регламентировать самые разные стороны жизни рабочих, наказания же за малейшую провинность были суровыми. Так, запрещалось «купаться и мыться на заводе, за исключением предназначенных для этого помещений», «принятие пищи в рабочих мастерских». Из прочих мер «в интересах санитарии» рабочие были, как записано в документе, «обязаны пользоваться только предназначенными для этого отхожими местами», а также «не должны были задерживаться в уборных», причём наблюдение за исполнением этого пункта возлагалось на самих рабочих. «Опоздавшие более чем на 20 минут» не допускались к работе до перерыва, причём пропущенное при этом время высчитывалось при оплате труда, а опаздывавшего «систематически» могли устранить с завода «без оплаты вперёд». «Хищения материалов и изделий, а также подлоги в расчётных книжках и требовательных ведомостях наказываются как уголовные деяния. Виновные передаются народному суду»253. Совершенно очевидно, что приведённый документ содержит не только меры по действительному поддержанию дисциплины. Налицо стремление к мелочной регламентации всего поведения рабочих.
7. На перепутье: фабзавкомы и рабочий протест
Понятно, что, ощущавшие себя победителями в состоявшейся революции, рабочие не могли просто так смириться с утерей самостоятельности и завоёванных прав. Как только большевики вместо прежнего частнохозяйственного ярма попытались надеть на рабочих ярмо государственного принуждения, они столкнулись с ожесточённым сопротивлением. На первый взгляд, такое развитие событий выглядит не вполне логичным, ведь рабочие сами ждали от государства всеобъемлющей патерналистской опеки, причём не только от нового, большевистского, государства, но и от государства вообще, государственной власти, как таковой. Не будет преувеличением сказать, что одной из фундаментальных причин Февральской революции стало разочарование рабочих в способностях царского режима опекать интересы рабочих, что видно из приведённых в предшествующих главах материалов. Ждали поддержки рабочие и от Временного правительства. Ещё до Октября зафиксированы многочисленные обращения рабочих к правительству с призывами ввести на их терпящих бедствие, разоряющихся фабриках и заводов государственное регулирование или, в других случаях, наложить секвестр на предприятия саботажников. Так, в протоколе завкома завода бр. Бромлей за 24 июня 1917 г., помимо «перечня важнейших мероприятий, направленных к установлению нормального хода на заводе» и указания на то, что действия заводоуправления направлены к сокращению производства, звучит категорическое требование членов завкома «установления государственного контроля». Аналогичные случаи отмечены и на других предприятиях ЦПР, Петрограда и других районов России, количество которых особенно увеличивается летом 1917 г.254.
Но особенно участились подобные обращения рабочих после Октября 1917 г., когда в сознании рабочих государство стало и «своим», и «демократическим», примером чего может служить позиция рабочих текстильной фабрики В. И. Агафонова подмосковной станции Химки, просивших «объявить её собственностью Российской республики» – традиционная формулировка для подобных обращений. А на заводе Михельсона, когда там сложилась остро критическая ситуация из-за недостатка рабочей силы, завком постановил, что единственным выходом может стать милитаризация труда255.
В чём же, в таком случае, видели рабочие главную угрозу для своих массовых объединений? Что заставляло их с подозрением относиться к усилению воздействия со стороны государства на различные стороны жизни общества? Не столкнулись ли мы с проявлением нелогичности рабочих, вызванной их экономической безграмотностью и неискушенностью в политике? Ответ на этот вопрос частично прочитывается в той горячей полемике, которая развернулась на VI Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов, когда из уст многих делегатов от трудовых коллективов города на Неве прозвучали нескрываемые опасения перед начавшейся бюрократизацией Советского государства. Государственная опека и бюрократический диктат в представлении большинства рабочих того времени не являлись родственными явлениями, а выступали в качестве непримиримых антагонистов. Бюрократизм был главным врагом в налаживании взаимовыгодного сотрудничества между рабочими организациями и Советским государством.
Тем самым корень зла рабочие видели не в самом вмешательстве Советского государства в экономику, а в тех формах, в которые оно могло вылиться. Ещё до Октября, сталкиваясь с проявлением бюрократизма в своих рядах, рабочие реагировали на них крайне болезненно и пытались обезопасить себя от проявлений чего-либо подобного в будущем. Тем более что даже в деятельности самих фабзавкомов случаи отрыва активистов от выдвинувших их рабочих коллективов были не редкостью. Так, рабочим московского завода «Металлолампа» пришлось выступить против своего завкома, члены которого, по словам работающих на предприятии, не считались с их мнением и позволяли себе относиться к своим же товарищам некорректно и заносчиво. На другом московском предприятии – заводе Хлебникова – рабочие жаловались, что их избранники оторвались от коллектива и не работают и что пора заставить их это делать. Происходили подобные инциденты и после Октября. Завком Пучежской мануфактуры, например, столь «активно» занимался «управленческой деятельностью» и с такими проявлениями волокиты, что в январе 1918 г. его прямо обвиняли в бюрократизме256.
Поэтому рабочие, поддерживая регулирующие усилия Советского государства, выступали против любых проявлений бюрократизма в системе управления производством, отождествляя порядки бюрократические с самодержавными и буржуазными. Уже на I Петроградской конференции фабзавкомов была принята резолюция, в которой однозначно говорилось, что регулирование бюрократическими механизмами невозможно257. С аналогичных позиций выступали и фабзавкомы ЦПР. К примеру, на Учредительном делегатском собрании областного Союза текстильщиков Иваново-Вознесенска, проходившем летом 1917 г., представители фабзавкомов не только поддержали решения по этому вопросу своих питерских товарищей, но и приняли свою аналогичную резолюцию. В ней «бюрократический путь регуляции промышленности» отвергался категорически, поскольку воспринимался как антипод рабочего контроля258.
Особенно нетерпимыми проявления бюрократизма становятся после Октября259. Критикуя на одном из заводских собраний новое «советское» руководство своего предприятия, работница ткацкой фабрики Раменского района Таптыгина, делегатка Всероссийского женского съезда, так передавала отношение рабочих к подобным явлениям: «Только те коммунисты, – говорила она, – которые живут с рабочими в спальных корпусах, а которые в особняки убежали, это не коммунисты. Это уже не коммунисты, которые пишут у себя: без доклада не входить»260. После Октябрьской революции бюрократизм всё больше начинается восприниматься рабочими не просто как какой-то «нарост на теле революции», а как злейший враг рабочего самоуправления261.
Ситуация с рабочими организациями резко осложнялась из-за кризиса промышленности, транспорта, снабжения городов хлебом, о чём подробно уже говорилось. Став во главе государства, большевики оказались не в состоянии совершить ожидавшегося от них чуда – в одночасье переломить негативные тенденции в социально-экономической и политической сферах. Более того, подчас их собственные действия способствовали обострению ситуации, что вытекало из победы во внутрипартийной борьбе тех групп в большевистском руководстве, которые не видели смысла в поддержке рабочего контроля и самоуправления. В этих условиях рабочие ещё больше тяготились своим бедственным материальным положением, ощущали себя брошенными один на один с экономической разрухой и надвигавшимся голодом. Сходные причины порождают сходные по своему проявлению следствия. Так же как и в предшествующие месяцы, крайне низкий жизненный уровень значительного числа рабочих, а также попытки государства, теперь уже советского, ограничить независимость рабочих организаций становились катализаторами массовых выступлений, теперь уже не против «буржуазии», а против самого «пролетарского государства». Материальные тяготы и политика огосударствления становились постоянными раздражителями рабочего протеста. Такова, если вкратце, анатомия временами проявлявшего конфликта «рабочего класса и рабочего государства».
В советской историографии тема рабочего протеста в первые месяцы формирования большевистского государства относилась к числу неудобных. Не отличалась объективностью также эмигрантская историография, а западные историки, как правило, просто повторяли её положения и выводы. В силу этого имеет смысл остановиться подробней на проблеме взаимоотношений между рабочим протестом и органами рабочего производственного самоуправления. Прежде всего приходится констатировать, что протестные выступления рабочих в Советской России носили довольно массовый характер. Общее число участников протестных выступлений рабочих на подконтрольных большевикам в 1918 г. территориях ориентировочно может быть определено в 100-250 тыс. человек262. Так, временами достаточно напряжённо складывалась ситуация в «колыбели революции» – Петрограде. Рабочие были не довольны перебоями со снабжением и выплатами зарплаты. Знаковым событием, своеобразным предупреждениям властям в те дни становится колпинская драма. По оценке историков Г.А. Бордюгова и В.А. Козлова, сценарий того, что произошло в Колпино, со всей наглядностью продемонстрировал, как вскоре станут развиваться события по всем городам России263. Здесь рабочим протестным выступлениям непосредственно предшествовал голодный бунт, вспыхнувший в очередях за хлебом, с последовавшим за ним расстрелом, учинённым местными властями, безоружной толпы, состоявшей в основном из жён и детей рабочих, протестовавших против голода. Среди раненых в результате стрельбы был 14-летний подросток Пётр Куликов, ученик начального училища при Ижорских заводах. Один человек погиб – рабочий Ижорского завода, казначей профессионального союза электриков Потёмкин.
События в Колпине сразу же были использованы оппозицией для атаки на правящий блок большевиков и левых эсеров. Пропаганда оппозиции ложилась на благоприятную почву. Уже 10 мая забурлил традиционно оппозиционный по отношению к власти Обуховский завод. В тот же день по инициативе Колпинской и Обуховской делегаций мощный митинг прошёл на Путиловском заводе. На следующий день, 11 мая, беспорядки в Петрограде приобрели ещё больший размах. В этот день выступления рабочих шли на Русско-Балтийском заводе, на заводе «Сименс и Шуккерт», на Арсенале. По сообщению оппозиционной прессы, «серия митингов, начавшихся в связи с голодом и репрессиями», перекинулась и на другие заводы. Так, на заводе Речкина рабочий митинг постановил: «Правительство, расстрелявшее рабочих, носит имя рабочего правительства. Мы призываем всех рабочих потребовать от большевистской власти снять с себя наше имя, которым оно прикрывается». В последующие несколько дней волна протестов поднялась еще выше, к ней подключились рабочие Карточной фабрики, Гильзового, Охтинского и других заводов. 14 мая в 8 часов 30 минут с Николаевского вокзала в Колпино отправился поезд с делегацией рабочих петроградских заводов, направлявшейся на похороны погибшего в результате расстрела рабочего. Власти пытались предотвратить превращение похорон в политическую акцию. Тем не менее в похоронах приняло участие более тысячи человек. На могилу Потёмкина лег венок с красноречивой надписью «Жертвам голодных – погибшим от сытой власти»264.
Беспорядки и волна стачек прокатились также и по другим регионам страны. Одним из важнейших очагов протестных выступлений становится Москва. Здесь выступления рабочих не приобретают такого всеобщего характера, как в Петрограде, но они особенно тревожили большевистское руководство – поскольку столица страны находилась теперь в Москве. Упорством, например, отличалось сопротивление со стороны железнодорожников. До крупных столкновений дело дошло на Александровской (Казанской) железной дороге265. На этот же момент приходится новый всплеск протестов со стороны печатников ЦПР266. Причиной этому было то, что нажим большевиков на оппозиционную печать существенно ослаблял их самостоятельные профессиональные организации и увеличивал безработицу среди всех профессий печатного дела. «Борьба большевиков со свободой печати сильно бьёт печатников, выбрасывает их на улицу, – писала газета «Дело народа» и добавляла: – Связь между большевистским режимом и безработицей в такой степени ясна, что у печатников большевизм потерял всякую почву». Новые проблемы порождала и практика национализации типографий, которая, по мнению журналиста, нанесла вред не только «буржуям», но и «рабочим печатникам»267. И хотя на самом деле речь шла не о большевизме, как таковом, а о бюрократическом перерождении его режима, сама тенденция развития умонастроений рабочих-печатников показательна.
Другим крупным очагом протестных выступлений весной-летом 1918 г. становится Тула. В июне 1918 г. состоялись забастовки на тульских фабриках Боташева, Копырзина, Лялина. Напряжённой обстановка была на крупнейших заводах города: Патронном и меднопрокатных268. Особенно нелегко большевикам приходилось на Оружейном заводе. Здесь сопротивление рабочих приходилось пресекать самым жёстким образом, вплоть до угроз закрыть предприятие. Напряжённостью отличалась обстановка в Нижегородской губернии269. На Урале прошло несколько заводских рабочих восстаний. Кульминационным моментом этой повстанческой волны становится знаменитое Ижевско-воткинское восстание270.
Постепенно формы протеста рабочих приобретали всё более масштабные и организованные формы. Они принимают отчётливый политический оттенок, внушая серьёзные опасения советскому руководству. Так, начавшееся ещё в январе 1918 г. организованное протестное движение рабочих к лету 1918 г. привело к попыткам проведения 23 июля в Москве беспартийного Всероссийского рабочего съезда271. Как показывают материалы следствия, в нём приняли участие около 40 делегатов, представлявших Москву, Петроград, Владимир, Нижний Новгород, Сормово, Тулу, Рыбинск, Севастополь, Воткинск и др.272. В рамках подготовки съезда в этих и других городах возникают альтернативные Советам пролетарские организации, объединившиеся к лету 1918 г. в достаточно многочисленное и влиятельное движение рабочих-уполномоченных. Зарождение движения уполномоченных происходит в северной столице, где в момент брестского кризиса мощно заявило о себе Чрезвычайное собрание уполномоченных от фабрик и заводов Петрограда (ЧСУ ФЗ). В ЦПР центром движения уполномоченных становится Тула, где оно выходит на политическую арену почти в те же дни, что и в Петрограде. В дальнейшем среди важнейших центров ЧСУ ФЗ и подготовки рабочего съезда выделяется Нижний Новгород. После долгих неудачных попыток, к лету 1918 г. удаётся распространить движение уполномоченных и на новую столицу Советской Республики – Москву273.



