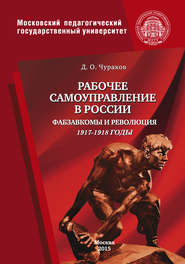 Полная версия
Полная версияРабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы
Этот подготовленный ВСРК проект выглядел столь вызывающим, что, например, советский историк В. А. Виноградов приписывает её авторство эсерам и меньшевикам, что совершенно несправедливо. Более того, авторство инструкции не вполне правомерно приписывать даже самому ВСРК, поскольку её проект был подготовлен не самим этим органом, а специально для этого выделенной комиссией189. Вопрос о её создании обсуждался на I заседании ВСРК. Выступавший в ходе прений Лозовский подчеркнул, что на местах рабочие не знают, что и как контролировать и что дело контроля – это прерогатива централизованной государственной политики. «В инструкции необходимо сказать, – развивал он своё понимания вопроса, – что рабочий контроль – это не значит переход предприятия в руки рабочих этого предприятия, ибо сепаратные действия только ухудшат и запутают положение дела». С аналогичными претензиями к фабзавкомам выступил и Ю. Ларин. Попытки председателя ЦС ФЗК М.Н. Животова перевести ход дискуссии в более конструктивное русло не увенчались успехом.
Как отмечается в газетном отчёте о заседании, «выступавшие … товарищи присоединились к точке зрения тов. Ларина, указывая на недопустимость существования «фабрично-заводского патриотизма» и на совершенно неотложную необходимость объединённой работы»190. По итогам состоявшегося обмена мнениями в состав редакционной комиссии были делегированы представители от ВЦИК, ВЦСПС, ЦС ФЗК, экономического отдела Моссовета и Союза металлистов. В комиссии преобладали сторонники ларинской линии191, тем самым работа над инструкцией оказалась всецело в под его влиянием, и когда документ был готов, Ларин настоял на том, чтобы его текст опубликовали без предварительных прений под предлогом необходимости предоставить возможность высказаться по сути изложенных в нём вопросов не только членам ВСРК, но и местным организациям, а также чтобы «отчуждение её (так в тексте! – Д. Ч.) не затянулось слишком долго»192.
Куда спешил Ларин – понятно. По сути его инструкция отбрасывала фабзавкомы к временам закона Временного правительства от 23 апреля 1917 г., по которому они сводились к сугубо формальным организациям. Поэтому в рабочих массах ничего, кроме именно отчуждения, она вызвать была не способна, и её обсуждение грозило вылиться в серьёзную битву. И действительно, на VI конференции фабзавкомов Петрограда, проходившей в конце января 1918 г., в адрес ларинской инструкции прозвучала лавина яростной критики193. Особенно подробно остановился на инструкции Высшего совета рабочего контроля А. М. Кактынь в своём докладе по вопросу о формах рабочего контроля и путях реализации Положения от 14 ноября 1917 г. Переходя от вступительной части своего доклада к анализу предложений Ларина, он сразу же, без каких-либо дипломатических ухищрений, назвал их «некоторыми извращениями», «которые нам стараются навязать наши товарищи справа». Особое негодование у докладчика вызвало стремление Ларина все распорядительные и финансовые права на предприятиях оставить в руках капиталистов, а верховные контрольные функции передать центральным государственным органам: «Мы получим не что иное, – разъяснил свою позицию Кактынь, – как простой бюрократический рабочий контроль, такой же самый рабочий контроль, какой имеется в Германии, в Англии, в Америке и целом ряде других стран, более развитых капиталистически, где капитализм проходит через высшую ступень – империализм… Но этот контроль совсем не то».
Критикуя предложенную Лариным схему, с трибуны конференции Кактынь заявлял о глубокой разнице между буржуазным, бюрократическим контролем, который, опираясь на пример Германии, навязывал русскому рабочему движению Ларин, и контролем демократическим, пролетарским. Если пролетарский контроль действовал «в целях удовлетворения интересов самых широких масс населения, всего трудового народа, то предлагавшийся Лариным контроль неизбежно должен был скатиться к защите узкого слоя олигархов: «Контроль… бюрократический, буржуазный вводится специальным аппаратом, бюрократией, особой чиновничьей средой, которая для этого дела назначается сверху и которая делает всё в интересах той клики, которая стоит у государственного руля», – настаивал докладчик. Завершая обзор ларинского документа, он выносил ему не подлежащий обжалованию «смертный приговор»: «В нём не хватает самого главного, – подчеркивал Кактынь, – не хватает доверия к … рабочему классу. Во всём сквозит недоверие, нежелание с ним считаться, как с взрослым, возмужалым, сознательным классом, и желание трактовать его как анархические массы, дикие в своих выступлениях, которые не способны тонко вещи производить в жизнь и только в состоянии разрушать всё, до чего дотронутся»194.
Родственную позицию с докладчиком занял один из руководителей ЦС ФЗК М. Н. Животов. По сообщению прессы, касаясь ларинской инструкции, он сообщил, что все его товарищи были буквально возмущены «тем недоверием к рабочему классу, которое вложено в основание инструкции». По словам корреспондента горьковской «Новой жизни», оратор призвал рабочий класс выразить недоверие самому Ларину195. Не отставали от официальных лиц и рядовые участники конференции. Анархист И. С. Блейхман отметил её пагубность и враждебность рабочим, поскольку «всякая форма организации, которая идёт не снизу вверх, а сверху вниз… не в интересах рабочего класс», а представитель рабочего комитета Ижорского завода Л. Зимин настаивал, что если разбираться с предложениями Ларина, то сразу становится ясно, что они ничего общего с рабочим контролем не имеют и на них «нужно смотреть не как на контроль», понимая под этим губительность для рабочего контроля выдвинутой ВСРК инструкции. В обоснование своей враждебности к ларинским построениям делегаты конференции ссылались не только на высокие политические идеалы: необходимость эмансипации пролетариата, развития революции и т.п. В их речах звучали и вполне жизненные, реалистические соображения. Так, И. П. Жук, делегат от заводского комитета Шлиссельбургского Порохового завода, откровенно признавался: «Правда, что политическая власть находится в руках рабочих, теперь диктатура пролетариата, а всё-таки карман карманом». В этой фразе в концентрированном виде отразилась одна из основных причин, по которой во многих трудовых коллективах при позитивном отношении к рабочему контролю, к государственному контролю, в какой бы форме он ни предлагался, относились настороженно и даже озлобленно: всеохватывающий процесс передела собственности, собственный житейский опыт, приучивший рабочих заботиться о себе самостоятельно и не ждать милости начальства, заставляли их предпочесть синицу скромного достатка в руках журавлю всеобщего планового социалистического хозяйства в небе196. Даже рабочие национализированных предприятий, получив от государства какие-то выгоды и поддержку, стремились сохранить как можно больше прав для своих организаций, сохранить рабочих контроль хоть в каком-нибудь виде.
Однако позиция низовых рабочих организаций к этому времени уже мало что значила. В советской историографии подготовленный Центральным советом рабочего контроля проект инструкции о статусе и полномочиях фабзавкомов на производстве подвергался справедливой критике. Вместе с тем советская историография стремилась приукрасить складывавшуюся в действительности картину, не переставая утверждать, будто бы ларинская инициатива никоем образом не отражала сущности политики Советского государства в отношении независимых пролетарских организаций. На самом же деле всё обстояло как раз наоборот. Доказательством чему служит факт принятия документов аналогичного содержания и другими органами, регулирующими деятельность органов рабочего контроля197.
Так, если в резолюции экономического отдела Моссовета за 11 ноября 1917 г. по итогам обсуждения тогда ещё проекта Положения о рабочем контроле признавалось необходимым, не дожидаясь выработки общегосударственного плана борьбы с разрухой, оказывать всемерное содействие московскому пролетариату в «деле развития его рабочей самодеятельности путём передачи всего административно-производственного аппарата в руки фабрично-заводских комитетов», то уже 17 ноября 1917 г. экономический отдел Моссовета меняет свою позицию. Теперь на организованном им совещании прежнюю резолюцию поддержал в основном лишь большевик А. Шлихтер, тогда как большинство собравшихся поддержало меньшевика С. Вейцмана, предлагавшего «узаконение» рабочего контроля «отложить»198. А 25 ноября 1917 г. экономический отдел принимает инструкцию, мало отличимую от инструкции ВСРК. В ней откровенно провозглашалось, что задачей рабочего контроля «отнюдь не является передача предприятия в ведение и управление рабочих данного предприятия»199. Задачами же контрольных органов на предприятиях назывались надзор и учёт200. Показательно, что Общество заводчиков и фабрикантов Шуйского промышленного района не только поддержало это решение, но и постановило «обратиться в Совет рабочего контроля Центрального промышленного района с просьбой распространить на Ивановский край действие Московской инструкции по рабочему контролю»201.
На уже упоминавшейся I Московской городской конференции фабзавкомов металлообрабатывающей промышленности, организованной по инициативе профсоюза металлистов и собравшей 125 делегатов от 116 заводов, была принята резолюция, где так и говорилось, что «осуществление распорядительной власти в предприятиях принадлежит заводоуправлению», фабзавкомы же, и даже профсоюзы, никакой реальной власти не получали202. Не было в ней и положений об обязательности решений контрольных комиссий для предпринимателей, о всех же их злоупотреблениях полагалось сообщать наверх для принятия решений, «не принимая самим никаких репрессивных мер»203. 1 1 января 1918 г. резолюцию, согласно которой органы рабочего самоуправления «на фабриках не имеют права вмешиваться в хозяйственные дела предприятия»204, принимает Московский совет рабочего контроля. По срокам это совпадало с обсуждением тех же проблем в Петрограде, но уже на всероссийском уровне – на I Всероссийском съезде профессиональных союзов.
5. На подступах к политике огосударствления
Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов проходил с 7 по 14 января 1918 г. в Петрограде205. Он становится существенной вехой на пути подчинения самостоятельных рабочих организаций и ревизии декрета о рабочем контроле. На съезде впервые был провозглашён новый курс в области решения рабочего вопроса, ставший известным как курс на огосударствление рабочих организаций. По существу, на нём в центре обсуждения оказывался вопрос о наведении в промышленности централизованного порядка и ликвидации революционной вольницы рабочих организаций. То есть именно тот вопрос, о который споткнулось Министерство труда Временного правительства. На профсоюзном съезде он решался двояко: с одной стороны, ставилась задача подчинить профсоюзной бюрократии «независимые ни от кого» фабзавкомы206, с другой стороны, сами профсоюзы намечалось подчинить хозяйственной деятельности государства.
Съезд работников профсоюзов открылся в сложной политической обстановке. Стало известно, что депутатов Учредительного собрания разогнали, и делегаты съезда находились под впечатлением этих событий207. По мнению А. Ф. Киселёва, глубоко и всесторонне разбирающего эти события, фактор эмоциональной, накалённой до предела обстановки, в которой проходил съезд, не способствовал поискам компромисса, и оппоненты не слушали друг друга, а выходили на трибуну дать бой политическим противникам, что наложило отпечаток и на результаты съезда. Вместе с тем вопросы, которые должны были обсудить делегаты: о характере революции, о взаимоотношении профсоюзов и фабзавкомов, наконец, о политике «огосударствления» рабочих организаций, -требовали к себе пристального внимания208.
Решения съезда во многом были предопределены выступлением на нём Г.Е. Зиновьева, объявившего эсеро-меньшевистское требование независимости рабочих организаций от Советской власти неверным и призвавшего к скорейшему включению профсоюзов в работу государственных органов. Большевиков в этом вопросе поддержали левые эсеры и некоторые другие более мелкие левые группы. Но хотя настрой левого крыла профсъезда на огосударствление рабочих организаций был преобладающим, некоторые делегаты отстаивали точку зрения о недопустимости этого шага. Так с прежней уверенностью отстаивал свою точку зрения о необходимости независимости профсоюзов А. Лозовский, предупреждая о возможности при других решениях их бюрократизации. С последовательно демократических позиций выступили присутствовавшие на съезде анархисты М. Шатов и Максимов. Так, Шатов полагал, что в будущем Советы уступят место «безвластной власти» фабзавкомов, а Максимов предупреждал, что огосударствление потенциально таит в себе немалую угрозу рабочим организациям, так как любая власть, в том числе рабоче-крестьянская, будет стремиться подчинить себе общественные структуры, и на первый план выдвинуться партийные интересы, которые не всегда будут совпадать с интересами пролетариата209.
Но эти предупреждения не переломили настрой большинства.
Более того, тот же Лозовский только что отстаивавший свободу и независимость рабочих организаций в отношении профсоюзов, обрушился с острой критикой на фабзавкомы. Он ссылался на пример фабрики «Треугольник», рабочие которой, так же как и администрация этого предприятия, из-за экономических соображений противились отмене на их заводе ночного труда для женщин. «Я должен сказать, – обращался Лозовский к присутствующим, – что такая автономия для фабрично-заводского комитета, который добивается сохранения ночного женского труда… является совершенно излишней». Таким образом, в аргументации Лозовского отчетливо прозвучала новая интонация – если раньше в основном ссылались, что вмешательство рабочих мешает предпринимателям налаживать производство, или что фабзавкомы исходят только из интересов рабочих своего предприятия, то теперь фабзавкомы обвинялись и в том, что они помогают налаживать производство капиталистам, и тем самым вредят пролетарскому государству210. В подтверждение своих слов Лозовский ссылался на мнение одного из небольших левобольшевистских журналов «Эра», в одной из публикаций которого так и говорилось, что «между отдельными рабочими и предпринимателями могут произойти соглашения в ущерб другим рабочим», в частности «соглашения для поднятия цен на продукты», так как это может «отозваться на карманах потребителей, которыми в большинстве своём являются рабочие»211. Ответивший Лозовскому от ФЗК Белоусов подчеркнул, что от Лозовского ждали не общих слов, а предложений по существу, фабзавкомы же выполнили работу по первичному поддержанию промышленности России в самый тяжёлый для неё период, ошибки же бывают всегда, когда начинаешь новое дело212.
Несколько на более традиционных позициях в критике рабочего контроля выступал Череванин, известный и прежде своей склонностью к абсолютизации централизованного регулирования. Он высказался в том смысле, что рабочий контроль начинает приобретать «зловредные функции» в случае его перерастания в социалистическую форму отношений. Такую свою позицию он объяснял тем, что Россия своими силами, сама, без помощи Запада никогда не сможет восстановить свою промышленность. «И вы думаете, – спрашивал он с трибуны съезда, – что по плечу рабочему классу такая задача?» – имея в виду построение социализма в разорённой, отсталой России, и сам себе отвечал: «…достаточно поставить этот вопрос, чтобы рассмеяться всякому марксисту при утвердительном ответе на него»213.
Таким образом, даже те делегаты, кто ещё отстаивал самостоятельность профсоюзов, не понимали необходимости такой же независимости и для фабзавкомов.
Ход 1-го профсоюзного съезда и его решения позволили некоторым исследователям даже утверждать, что на нём судьба рабочего движения в России была практически предрешена. В частности, Р. Пайпс делает вывод о том, что на этом съезде возобладал типичный для России процесс огосударствления214.
Трудно не заметить преувеличенность этой оценки. Причиной огосударствления были вовсе не традиции русской истории, как уверяет Пайпс. Наоборот, именно жившие в народе традиции трудовой демократии, помноженные на специфику революционного лихолетья, служили какое-то время противовесом господствующим во всем цивилизованном мире явлениям усиления роли государства. Далеко не закончена на I профсъезде была и борьба за самостоятельность рабочих организаций. Однако нельзя не признать, что решения съезда действительно наносили по рабочему самоуправлению серьёзный удар.
В частности, ключевая резолюция съезда «О рабочем контроле», принятая по докладу Лозовского, сводила его к своеобразному «проводнику общехозяйственного плана», который вырабатывался где-то наверху абстрактными и безымянными «регулирующими органами», под которыми теперь можно было понимать всё, что угодно. Принятое решение без обиняков провозглашалось «одним из великих завоеваний пролетариата в его борьбе за окончательное освобождение». Далее в резолюции говорилось, что пролетариату «необходимо самым решительным образом отказаться от всякой мысли распыления рабочего контроля путём предоставления рабочим отдельного предприятия права принимать окончательное решение но вопросам, затрагивающим само существование предприятия». В качестве задачи органам рабочего самоуправления вменялась в обязанность «подготовка отдельных отраслей к огосударствлению» – не больше, не меньше215.
Метаморфозы государственного курса и фабзавкомы
6. Рабочее самоуправление в тисках политики огосударствления
Приведённые выше факты позволяют говорить о том, что к зиме – началу весны 1918 г. тенденция на подчинение рабочего самоуправления возобладала, но утверждать, что был взят курс на полный отказ от него, тоже не приходится. Принятые на съезде профсоюзов документы, хотя реально и шли вразрез с интересами отдельных трудовых коллективов, но воспринимались самими делегатами как способствующие укреплению рабочего движения в целом. В ходе дискуссий зимы 1917 – весны 1918 г. большинство нового хозяйственного актива твёрдо встало на точку зрения необходимости главенства интересов государства над интересами рабочего самоуправления. Вместе с тем рабочие организации ещё рассматривались как необходимый элемент борьбы с буржуазией, поэтому о полной их ликвидации или полном упразднении их прав речи ещё не шло. Профсоюзы и даже фабзавкомы сохраняли свои прерогативы в самоорганизации, структуре и некоторых видах деятельности, хотя и утрачивали многие из своих прежних завоеваний.
Тем не менее важно отметить, что тенденция на отказ от самостоятельности рабочего самоуправления, возобладавшая в тот момент, находилась в явном противоречии с отмеченными выше тенденциями развития фабзавкомовского движения. Как мы видели, именно на конец зимы – начало весны приходится некоторый подъём количественного его роста, проходит ряд конференций фабзавкомов ЦПР, на которых сами рабочие говорят о необходимости дальнейшего развития своего самоуправления.
Курс на свёртывание прав органов самоуправления не мог не сказаться на приостановке отмеченного подъёма. Но особенно сильное сковывающее влияние огосударствления экономики и органов рабочей самоорганизации сказалось на качественной стороне состояния дел в фабзавкомовском движении.
Выше уже говорилось, что одним из не самых благополучных участков работы фабрично-заводских комитетов был контроль финансовый. Как одна из причин этого называлась нехватка профессиональных, компетентных кадров. Но до революции их не было тоже, но, как мы видели, рабочие некоторых городов ЦПР решались даже на контроль над местными региональными отделениями банков. После Октября ничего подобного уже не происходило. Причину этого следует видеть прежде всего в отмеченном выше противоречии между самостоятельностью рабочих организаций и курсом на усиление регулирующей роли государства.
Нельзя сказать, что финансовый контроль заглох сразу после прихода к власти большевиков. В параграфе о развитии фабзавкомов после Октября мы уже говорили, что на некоторых предприятиях рабочими по-прежнему осуществлялись попытки наладить контроль и в этой сфере. Налаживается контроль платежей и расчётов на Судаковском заводе216. Контролировались средства, полученные от распродажи излишков завкомом завода Гужона217. Как об одной из важнейших задач, стоящих перед пролетариатом, о налаживании финансового контроля говорилось на майской конференции органов рабочего контроля и самоуправления Костромы218. Ряд ФЗК имел специальные правила о расходовании денежных средств. Требовать от администрации сведения о ежедневном приходе и расходе по кассе, а также еженедельно о «состоянии и наличных средствах в кассе» 22 января 1918 г. было решено, например, рабочими «Общества электрического освещения 1886 г.»219. В своём исследовании о развитии органов хозяйственного регулирования в Советской России В. 3. Дробижев говорит и о других подобных документах, существовавших, в частности, на Реутовской мануфактуре, причём в отдельных случаях рабочие органы были столь упорны в своих требованиях, что на некоторых предприятиях предприниматели лишались даже права вскрывать денежные ящики без представителей рабочих220. Несколько слов стоит сказать также о деятельность по финансовому контролю, которую осуществлял ЦС ФЗК. В первую очередь она сводилась к инструктированию активистов с мест, рассылке своих инструкторов на различные предприятия для помощи рабочим в налаживании элементов финансового контроля и т.п.221.
Не сразу пошло на борьбу с инициативой рабочих в этом вопросе и государство. Причина этого крылась в той ситуации, которая складывалась в финансовой сфере. В частности, полностью рухнула налоговая система, что привело к резкому оскудению государственных доходов222. Исчезла возможность контролировать денежное обращение в стране. Комиссар Госбанка обращался к рабочим: «Не дайте буржуазии вытаскивать из банка деньги на её грязные делишки… приложите все усилия к тому, чтобы ваш контроль был действительным контролем… Не давайте хозяевам обмануть вас, и во всех случаях, когда у вас будут требовать на получение денег, строго проверяйте, нет ли у хозяина или управления заводов других источников покрытия необходимых расходов»223. Через центральную прессу Госбанку приходилось просить рабочих прислать образцы печатей и соблюдать установленную документацию и отчётность224, что говорит о крайнем хаосе в этом вопросе, царившем в Республике, и о попытках отдельных лиц этим хаосом воспользоваться. Только участие органов рабочего самоуправления могло хоть в какой-то мере стабилизировать положение дел.
Тем самым на короткое время контроль за финансовой деятельностью своих предприятий со стороны фабзавкомов превращался в важный элемент новой революционной государственности, поскольку другого финансового аппарата у Советской власти в первые недели её существования просто не было. Но чем дальше, тем больше эта практика начинает входить в противоречие с одним из центральных пунктов программы большевиков в области реформирования экономики, согласно которому всё банковско-финансовое регулирование при переходе к социализму должно находиться в руках государства225. Рабочий контроль над банками и крупными финансовыми потоками становится обременительным анахронизмом, от которого новые власти поторопились отказаться при первой возможности. Без банковского же контроля любое «финансовое контролирование» обращалось в иллюзию226.
Постепенно государство вообще начинает перекрывать возможность рабочим вмешиваться в деятельность не только финансовых учреждений, но и заводоуправлений. Причём заводоуправлений не только национализированных предприятий, но и частных. Так, возвращаясь к Всероссийскому съезду профсоюзов, стоит отметить, что резолюция по рабочему контролю, принятая на нём, так прямо и говорила, что органы рабочего контроля «не занимаются вопросами финансирования» даже у себя на предприятии, точнее не должны заниматься227. Лишались права финансового контроля фабзавкомы по § 8 Инструкции о рабочем контроле Всесоюзного совета рабочего контроля228. Не предусматривался финансовый контроль и в решении экономического отдела Моссовета от 25 ноября 1917 г.229, а также во многих других инструкциях, местных правилах, директивах, принимавшихся и рассылавшихся в тот период для ознакомления в низовые звенья рабочего контроля. Как правило, эти документы носили не рекомендательный, а распорядительный характер.
Не менее показательно пагубное влияние нерасчётливого вмешательства государства в хозяйственную жизнь проявилось на снабженческой деятельности фабзавкомов, которая прежде, как мы могли убедиться, складывалась существенно успешнее попыток установить рабочий контроль в области финансов. Однако и здесь тормозящее влияние бюрократического централизма начинало сказываться всё более ощутимо.



