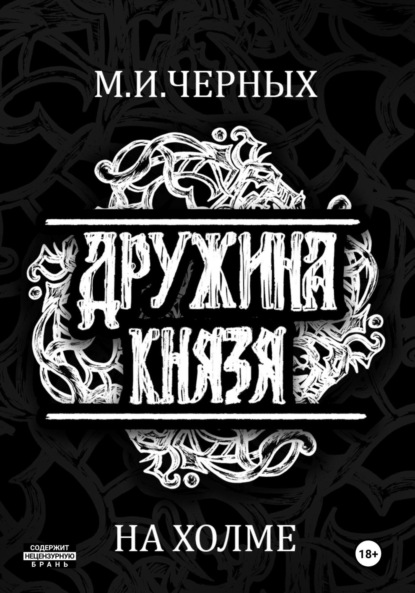
Полная версия:
Дружина Князя. Сказание 1. На холме
И отпустило среди Князя Краевого, он же, елико сообщить, иже плоть вчередную в пепел устремил, не явствовал. Поверх вороха надуманного, тем ещё терзался. Да со словами истоки деяния Есеневского наблюл. Они к нему с силой мастера бывшего попали, да с болью его, кою унять тот не дюжил. Песнь, эк заговорённая всё повторялась: «Уверен, иже осилишь? Мир миром быть перестанет, и идеже зло тебе чудилось, добром оно обратится, а то, иже ты словом добрым чествовал, узришь, инно оно кинжалом в спину запущенным отразится, да кольми того ужотко не отвернёшь. Так видеть и будешь до смерти самой. Хоть вежды закрывай, хоть распахнутыми те держи, да всё едино станется».
И многажды Белояр Мстиславич сю речь повторял, да кажинного ученика думать заставлял, к искусам не допуская, покамест тот не решался, и точию опосля его учил. И не многий грань ту, перейдя, жить ниже норовил – Уветичь так и не сподобился, поелику и пал, зримому противясь, Святосев Святовидич те слога аж наизусть запомнил, да мощь их и Есень на шкуре своей ощутил. Егда домой остатний возвратился, вдобавок с сознанием чистым, жену, в экой души не чаял, встретил и углядел, иже он на ту полог предначертанной накидывал. И убивало то ажно троих: и судьбу им ещё не встреченную, и деву, любимой окликаемую, да избранного ей. И эк Есень бранился, эк дрова в щепки рубил, да водой ключевой себя поливал, токмо бы охолониться и видеть сё перестать. Обаче нияко ему не подсобляло. Поелику гневился он на знания полученные, искусы срамил, да рок незавидный попрекал. Исправить всё то пытался: и внимательнее сделался, и участливее, на всякий взрыд аль наказ жены отзываясь.
И вторили те чувства Святосеву Святовидичу в глубинах, он же тожде на личине своей сё ощутил, да подобно Сотнику Краевому зенки выколоть себе мнил. Ак ведь и с Чернавой у него ключилось. Не посмотрел бы на неё втагода Тысячник Унчий, и да, красива ведьма была, обаче сонмище красавиц по земле Роской бродило. Ему мировоззрение её не отвечало, а от сути в ведах, выраженных, его аж мутило. Они с той, аки на двух брегах реки разной стояли в волостях дальних раскиданных, посему чужой Чернаву Святосев Святовидич возвещал. Да сестра Градимира Ростиславича из старших молодшая воеводе одно и то же каждый день твердила: «Предначертаны вы, ты к ней и сойдёшь, да счастлив будешь». Аж до скверны его внутри Ядельрава доводила. Ещё и терему всему то разболтала, даром, иже подмастерьем Черниры, жены Марева, величалась, травницы мудрой. Вестимо, глаголала Ядельрава, яко наговор сё, но братья скоро то подхватили. Святополк, сын Святомира, будь он неладен, ально свадьбу играть удумал, тем до бешенства белого Святосева Святовидича доводя. И всё оттоль, яко равно Ядельраве, Князь Краевой нить меж собой и Чернавой осязал. Да всякий раз поражался доле и глупостям её, понеже настоль дева ему та прекословила.
И не чудилась она ему красой невиданной, инно Святозар Святославич о своей суженой бывалоча сказывал, и понимание сущего ему в очах её не раскрывалось, инно Могута Мирославич о Воробье, жене избранной, молвил, да выражение души её жар и уд ему не подымали, инно Градимир Ростиславич в мече однова отразил. И то инда Белояр Мстиславич подтвердил, экий тем недеже не терзался, изрекая, иже одна то дорога и путь един, а, знамо, и притоки, и ухабы равны, да то разом в естестве и вспыхивает. А у Святосева Святовидича ниякого не вспыхнуло. Он утехой то называл, над ним весельем. И тожде искусы проклинал, и бранил он те, ижно до мастера дойдя.
Мыслил, яко рок того к рукам прибрал, в кой народ присный верил. Всякий же из учеников его ведал, иже Белояр Мстиславич всерьёз жёнами не увлекался, лечьбе себя посвящая, а неким, и вовсе грезилось, иже он с теми ажно ложе не делил, да делить не собирался. Словно всё плотское ему до лютой стужи опротивело, и не тут он явствовал. Да и бросал Князь Горный бесперечь, яко то тела желание и его освобождение следующее. И, янысь, думе той он подмастерьев не науськивал, обрат вольность в мышлении дозволял, но все ученики, инно не сговариваясь за ним то повторяли, каждый притом отличаясь. Самовлад отвечал, яво участи пара – вымысел, коим девы юные в празднества от скуки развлекались, Уветичь – обождать просил, а Мормагон, эко Белояр Мстиславич, в искусы погрузился, на внешнее внимание не обращая, всё гадал витязь, елико бессмертие яскры плоти передать льзя. Адно Пересвет, сын Святомира, Тысячник Унчий, кой ежеденно свою предначертанную встречал, так с ней порознь и существовал, менять ниякого не думая.
До того и Есень в ругани дошёл. Вырваться из тех оков он захотел, да полог слабеть на жене его почал. Ссоры и ругать в семье власть обрели, ально к родичам от Есеня возлюбленная его сбежала. И по праву, да по учению. Одеяние искусное же кольми третии кругов на сосуде без хворобы не задерживалось, сходило, либо убивать начинало, скверной али плеснедью становясь. Ак и тому срок миновал, но раньше. Есень же на себе чужого мужа сознавал, и того не терпел, образ снимал. Обмен, тем самым меж пологами прерывая природный, кой по незнанию люди неведущие доселе натянули. Убо жена Есеня, нехай, и не видела, и не чувствовала, да ниявого сверх надобного ей не разумела, но беспокоиться без причины стала. Оттоде и слёзы её лились, и крики множились, да то она смыслом не наполняла, так и жила, индно душу слышать перестала, коя достучаться до неё пыталась. Всё быт земным оправдывала, другим внимала, поелику и естество её замолчало. А Есень втагода выбор в белену сделал, да мощь суженой на уёме девы избранной усилил, иже возвратилась жена его домой, инно Сотник желал, и эк с судьбой мукой бороться умыслил, так приговор четвьры и подписал.
И не одобрял сего Князь Краевой, янытысь, и ощущал, иже и Есеню то решение тяжко далось. Сам себя в его дни помнил. Ведь Святосева Святовидича же никто не вопросил, якого он желал, да сказанное на веру кажинный принял, и радости скрыть не порывался. За него все определили, а он не хотел. Вкупе с Чернавой себя не зрел. Да и в судьбоносности ей впервь сознался, воеже от него точию отстали. И егда та ему отказала, черты оков в душе его не зыбилось, эк счастлив он был. Обаче с Ядельравой на том в отлив разругался, ажно ноне язык они общий не находили, и не стоило ему, вестимо, ведьмой её дурной называть да глаголить, яко предсказывать она не силиться.
Градимир Ростиславич со Святополком, сыном Святомира, ещё за Чернаву вступились, наказали добротно чувства изложить, и сызнова попробовать, а ни эк он – без даров и дела сие толковать. Поелику и вторь раз на поводу у тех Святосев Святовидич пошёл, да огулом нить, яко меж ним и Чернавой плелась, разорвать стремился. И било его деяние сё – зело, иже кровью он плевался, на том и нутро захворало, да попыток Князь Краевой не прекращал. А на травнице итог свой сверял, и каждый раз – неудачно. Инда мастерицу в Краевом уделе сыскал, ведьму, яко в плетении судеб человеческих разбиралась. И та его поддержала, у самой проблема равная имелась, посему и объяснила она ему, елико нить, иже он видел, порвать. Ан и её способ успехом не увенчался, эк не любил Святосев Святовидич дев разных, да инно на тех с Чернавой связь не драл, всяко то в чернь, то в белену скатывался, ажно лично в предречённом Ядельравой убеждаться почал. Ему инда робя от Тьёдерун рождённый не подсобил. Он, вестимо, на млада в уме не рассчитывал, но коли возжаждала девица того оставить, понадеялся. Да болого сызнова прахом оборачивалось, зане зов естества Святосев Святовидич схоронил, и Чернаву суженой нарёк, инно Есень в грёзы по закату поверил.
Часть 3
А Белояр Мстиславич с тем ещё и беседил, да любопытствовал, эко он умел, к природе возвращая: «Ты меня обманом взять норовишь али себя? Ак, глухо. Я и ты – равно глядим, иже мощь на жене суженой твоей, и ты сам её на деву сю приволок, а, знамо, её ты и трогаешь, да её воспеваешь. Полно, лудень, исправляй, инако сгинет возлюбленная твоя».
Обаче так и не повинился в правде Есень, всё на своём настаивал, яко жену зримую любит, и токмо в ней продолжение осязает. И дотоль раздухарился он, вслух заливаясь, иво суть предал. Не жаждал Есень очевидного признавать, нехай, и знал, иже Белояр Мстиславич всего лишь истину подвига его обнажал, да страх тем вельми владел. Боялся Сотник Краевой, ива отпустит он деву, да суженую засим нидеже не встретит и не получится паче на другую, взамен сей, мощь ему натянуть. Яко и отрицал, противился. Ведал, коли утвердил бы, то и сила надетая распалась, да и жену б обнимать он ниже не сдюжил. А на том и боязнь в белене силу обрела. Обвинять Белояра Мстиславича во лжи Есень принялся, его судить пытался, сказывал, иже не разумеет он, иже молвит, да его с пути сбивает, зане лично оттоль отрёкся. Молча мастер их бывший дом подмастерья покинул, и слова не обронил, да те в спину ему потоком нескончаемым сыпались, стену из муки образуя. Пал ужотко втагода Сотник Краевой, да о том Белояр Мстиславич точию Самовладу и сказал. И то понеже в плеснеди ковыряться не мыслил, по другим делам же приехал. А Святосев Святовидич было вздумал, иже ему он того не поведал, ибо бреши их с Есенем схожи. Ан нет, сочинил, порожно: на кого первь мастер бывший наткнулся, тому и сообщил, да из головы ту глупость выкинул.
И гневался идеже Князь Краевой на то, иже жену Есеня тожде спасти ещё возможным чудилось, а Белояр Мстиславич и на неё рукой махнул. И понимал, посему мастер як поступил: он и в ней гниль, привеченную, с мукой смешенной разглядел, и яко всё ту устраивало, едино. Да и расплата ей за деяния её равная выпала, сверх меры невыверенная. Одначе скорбел по жене Есеня Святосев Святовидич, оттоль зело откликалась она ему. И в обоих он себя смотрел, и оба кончили скверной разъеденные, а Князь Краевой так не хотел. Отонудуже и след в песнях яскру его колебал.
Наказала эк-то опосля Ядельрава, яко он из-за Чернавы сойдёт, смрадом увенчанный, и мнил Князь Краевой, яво по злости. Да, быт её предречению руки пожимал охотно. И разумел он, елико Есень, иже с роком совладает, видел и старался черту изменить, да эк жена его, неладное в душе всяк раз слышал, да сомнения его с пути сбивали. И равно обманул себя Святосев Святовидич, быль настом окликнув, точию попыток не бросал. Решил, иже так утешницу судьбу обманет, вроде и всем вслух правду лживую признает, а среди – за истинное биться будет. Да по отливу скверна и его коснулась, нехай, и вовнутрь не вошла, а, вестимо, неверно быт он притворял. Понимал. И всё ж, эко Есень от желаемого в мыслях не отказался, думам белым и чёрным не поддался, так и верил, иво судьбу победит.
Да злость его в Гранинграде и Ядельраве, на твердь его вступившей, отразилась. Белотур Всеволодич, Князь Леший, ту с обоза снимал, Святосев Святовидич ощущал, с Буренежей да Берзадрагой, и ежели остатних тот по наказу Белояра Мстиславича доставил, то на кой младшую из старших сестёр Градимира Ростиславича притащил, он не ведал. Хотя догадывался, пытаясь о том не думать, ибо эк явно Ядельрава позлорадствовать над ним навязалась, узреть она жаждала, инно грядущее, её предсказанное, в жизнь воплощалось. Доказать Князю Краевому всё мнила, иже предрекать она силилась, да слова его в пылу гнева брошенные ему же возвратить желала. И одно дело суженая не весь акая, да совсем другое – век яго. Не хотел Святосев Святовидич, Ядельраве той отрады доставлять, инда подняться возжелал, да его камнями Гранинграда вдругорь накрыло.
Он же дотоль терзался тем, иже тот от Барга не схоронил, грань, экую хирд перешёл, не почуял, да нападение не предотвратил, а теперича в его сожжении и рок глядел. Сделай же Есень из жены своей ягу, да душу той возвратить попытайся, то на место неё непременно бы чудь невиданная явилась. Естество же, отходящее, нидеже не покоилось, да споро на круг новий вставало, буде в гнили аль муке белой не извалялось, а коли по-иному, то кости яскру судили, заставляя суть, сызнова пробудиться. Их и корнями, и предками нарекали, они и увещевали, на путь вставать подсобляли. Ак люд, впрочем, верил, иже с каждым происходило, да Святосев Святовидич в Белом братстве и иное видел.
Эко твердь разразилась, да мучение ведьм, убитых, пред ним оголилось. И не души, и не тела то почивали, а след нагой без ипостаси берёгся, в кой чувства и думы заковывались для искусов грядущих. И колико инуде страданий содержалось, желаний погоревших, да криками сё полнилось, а те, вдобавок, суть живого раздирали, Святосев Святовидич и сосчитать не силился. Да точию тот след волхвы и очеловечивали, тела умершие для сего из земли выкапывали, да в дело их пускали. Сражаться с ведьмами их як обучали. Одначе сё не человек живой, а плоть скверной наполненная, и без яскры та существовать не пыталась, да к ней по-поденности тянулась. Поелику неких мастеров акой уём иссушал до основания, от них инда меч не спасал, убо они и изрубленные естество забрать умудрялись. И одна токмо вещь выручала: ковали их словом, да в разлом обрат отправляли.
А в Гранинграде Белых волхвов отстроясь не водилось, да чина мастера, достигнувшего, и подавно, понеже сожрала бы всех жена Есенем пробуждённая, с него начиная. И не стало бы ниже града, ту, мёртвую, вестимо, и повитуха бы одинокая не остановила, она едина ведь на селение кликалась, и то яво жильё на черте двух княжеств стояло. Да и не дошёл бы до Гранинграда Святосев Святовидич в зиму, оттоде эк не узнал, снег же смрад замедлял, не грань же пресечённая. Отонудуже к льену бы точию правда ему и открылась, и болого, один бы град тварь та поела, так ей и холод не страшен, она и до соседних деревень добраться дюжила. Зане и стоял бы он тожде с братьями и свершённое восстанавливал, вестимо, след силой душ чужих напитался, да сбора витязей в тысячи две стоил. Оттоль и потерь бы они кольми насчитали.
И осознание то добивало, к земле клонило. Да эк отвергал рок Святосев Святовидич, так и нынче норовил его развеять, огулом тот, аки поперёк, испытывая. И Ядельрава на сё пришла, инно чувствовала. Ведьма она, эк есть ведьма. И не абы акая, а судьбу вяжущая. А акие не то, еже смолчать, егда путь немного накренился, не силились, они несправедливость зрели. Да та изнутри их разъедала, ежели они ту в покое оставляли. Поелику то их сути отвечало, их волю творило, да в быту отзывалось. Не зря их и корнями окликали, они ж, аки предки, к ипостаси взывали. Обаче то опосля плоти отделения подсобью именовалось, а в быту мало кто к существу своему прислушивался, посему не любили их и зело.
И кому же в отраду различать, иже он не прав, да идеже? А они то видели. Колебание небольшое аль оступь, и те сообщали. Понеже не было у Ядельравы ажно друг близких, точию сёстры её и терпели, и то оттоде яво кровь она им родная, а иные с ней, повамо слово глаголать садились, сонмище якого новьего о себе узнавали. И человек по вороху истоков ладил от счастья отрекаться, да не осязала сего Ядельрава, и в себе то не хранила, инно ей отвечающие. Убо грязи им в спину множно летело, они токмо снимать ту успевали. Одначе и тянулись к тем люди, паче, як к году иль мёду на пожаре, да всё кругом сызнова для кажинного оборачивалось.
Мастерица Святосева Святовидича ально от народа в поустоши ушла, да ак всё сплела, иже к ней никто кольми и подобраться не дюжил. Зане натерпелась она акого, якого и предатель родины илонды не ощущал, яко всех изничтожить возжелала. Князь Краевой еле её упрямство пересилил втагода и то, бо с Ядельравой подолгу до ссоры их бесидил. И учил остатнюю Святосев Святовидич и слог прятать, а ежели невмоготу то речь вязать искусную, скверну али муку других не трогая, да инно прежде та к нему в слезах прибегала, покамест он с неё сглазы с разрывами убирал. Отонудуже Святосев Святовидич и в силу Ядельравы не верил. Не понимал он, эк то, иже поверх лежало, очистить она не тщилась, то адно люд присный в бане водой смывал, а другой и волей отражал не ведая. А Ядельрава, ведьмой, от пустяка сущего гибла. Яко считал он, иже то с ней из-за имени ей дарованного происходило.
Додумалась же Евглава, Княгиня Великая, жена Ростислава Третьякича, дочь, аки рощу еловую назвать, вестимо, та в быту и кололась. Да и я́дель не так, ижбы древо порожное, с ним и мёртвых сжигали, и рождение встречали, да на свадьбу его рядили, поелику судьбу оно значило. Зане никто в еловые рощи инда за грибами не ходил, пробуждали же те поворот раньше срока сречённого, оттоже и человек с пути сбивался. Его грань рока рассудка лишать начинала, и терялись люди в лесах, плутали, а их опосля почившими от изнеможения находили. Убо ведунам да ведьмам пришлось лихо измышлять, дабы перестали девицы и отроки, иже суженых своих ещё не повстречали, под лапниками в корнях лазать, надеясь избранных скорее обрести. То, и право, обряд, да костями восхвалённый, но токмо на очищении зыблемый. Да, следом него норовили некие с предначертанными своими всё же столкнуться, обаче тот плод заслуженный, кой к корню со стволом прилагался споро. Ото вся тропа жизни грядущей выравнивалась инде, посему и век наново лицезреть всякий починал. А коли человек с мыслью неверной в ельник приходил, да засим вдобавок и дорогу старую, по экой пришёл, искал, то мучили его предки, да зело. Хода же прошлого не имелось, и эк не зазывал его пришлый, ему каждый похожим, на первь и грезился. От и блуждал он, поколь новий путь не выбирал, а коли его отсекал, то погибал.
И люд подённый всё то влекло, им же враз желаемого достичь хотелось, а инуде знания да мудрость, экую предки давали, содержалось. И держал длинно ядель, и тех, кто и гриб, чудилось, под деревом одиноким да старым однова собрал, кто в лапник не полез, а ежели он тот ещё и вкусил, то изменения и в дом его, и плоть пробирались. И подобно корни наследию подсобляли, да пред годом того ликом ставя, иже человека ально трясти оттоде дюжило. На грань же вступил, идеже все полосы в одну соткались, а, знамо, и решение ему принять надобилось. И редко колебал подступ, избранный, ядель ниже, отходил, понеже ужотко за ним корни плотские, иже ведьбабами, да ведьдедами в неких уделах Роских нарекались, занимались.
Точию раз древо колючее, зелёное выручало, да вблизи года токмо, а вдругомя – исхода оно ждало уготованного, да тления телесного, и уде втагода во власть свою вступало, а ведающие си бренно постоянно. Ибо полжизни они на черте проводили, народу якого открывая, отонудуже грань их и не трогала, да трогали их совет принявшие. В порубах бесперечь их закрывали али на окраину селили, ужли не сами те сбегали, бо их ведунами и ведьмами односельчане кликали. И то до власти братства Белого ругом не слыло, постыдным яким-то не являлось, обрат гляделось. Акие люди и в вече, повзрослев, входили, и в вожди их избирали, зане в них множно сострадания и мудрости умещалось, да на защиту те подрывались бойко, сути внимая. И то древле, а нынче, ведовство хуже воровства, да вровень с колдовством стояло. И буде мужьям и отрокам в меньшей степени доставалось, их и на службу в Белый терем позвать тщились, и отказать те силились, в дружину уйдя али при деле родовом оставшись, то с жёнами приговор был един. И се от разности мышления точию проистекало. Девицы же и венки плести любили, и на щепках, прогоревших, в мисках гадать умели. И не значилось в том искус тайных, но и поденности присной сё не вмещало. Грань же празднество открывало, посему кажинный, того не ведая, её приступить и пытался. И аще мужья на гуслях и бубнах играли, и им ниякого вменить Белое братство не ладило, то жён в ведовстве аль колдовстве уличали. Знаки же на то указывали, и травы во всякой избе хранились, поелику те, эк твердь и пользовали. И ежели плоды и ствол волхованство не теснили, тех и вече ограждало, ибо общине они не досаждали, то корням воздавалось.
Вестимо, за язык их длинный. Те же во всём прореху глядели, и в посеве, и в устройстве, а кого илонды за дело клеймили, они охоронять стремились, да супротив решений старейшин рассуждать те, вслух не боялись. На черте же почивали, понеже и зрели кольми, да меру не отмеряли. Подумаешь, убил, он же за жизнь сражался. И один убил, супротив двоих ему ни в яком не уступающих выйдя, а так по-разному несправедливо. Двоимы же в драку полезли, один токмо упал неудачно, да сгинул. А судить вдругорь единого умыслили, того, кто век свой защитил, другой тем самым отобрав. И лились на судах слёзы, да лишь со стороны, кровь утерявшей, всхлипы с криками множились, обвинения хлёсткие бросались: «Эко быт вести далече? Кормильца ж изничтожили! Да на кой горе сие выпало?!» А народ к ним состраданием проникался, успокаивал, подсобить яким старался. Да не того, плакальщицам требовалось и не плати, жизнь они чужую жаждали, зане усугублялись укоры, и оговоры росли, то и на вече действовало. Разгоняли недолю испытавшие до противного. Мол, эк сей вымесок блудоумный устой соблюдать будет? Он же кулаки безнаказанно распускает, так и на поле выйдет, и не жди опосля мужа любимого к вечерне. Всякого же ерохвост сей переведёт. А из-за сулящего и жёны страшиться починали, бед грядущих наслушавшись, и мужьям они сие доносили, а те ниже на вече накрученное гласили, да другие, акие же слово страшное поддерживали, ужотко сами равное считая. На том и того, якого нидеже в быт не притворялось, сочинялось. И елико дик и норовист убивец слыл, и елико он людям вреда чинил, и елико за спиной тех поносил. А корни тех оговорок не пропускали, вступались. Глаголали, иже всех судить надобно. Всё же видели, инно двое одного округ взяли да смолчали, а засим и драку довольные смотрели, сызнова не вмешиваясь. Да инно первь сбежал, получив, и вторь на единого со спины напал, тожде видели, и инно он рухнул, и не встал кольми, различили. И кто бил, паче за умершего мучился, нежели первь сбежавший. А, знамо, ещё и в воспитании прореха. И ежели вторь уходом наказали, он же старше и явно первь науськал, двоимы на одного идти, а, стало, ежеденно он сё и воплощал да, наконец, напоролся. То первь, в черёд, розгами отходить надобилось, дабы наново ум в того вложить, воеже впредь своих не бросал, да жить нечестно прекратил. И убивец – не умелец, раз силу не унял, да он всяко не воин, а сын кузнеца, и егда с двух сторон его обходили, угрозу жизни почуять норовил, зане и дрался насмерть. Оттоль его остатним и не единственным судить следовало, а всех, кто к перепалке той, пустой, глазом аль рукавом коснулся.
Одначе вину никто признавать не желал, гул подымался, в коем себя каждый обелить мнил, иные же – среди уязвлялись, а корни всех неправыми называли, и сего народ не прощал. Да то в общине, на суде племенном, а акой дюжил за луну и разногласий два деся рассмотреть, и по каждому корни высказывались, но наедине всё хуже представало. И нехай, гранённые и ртом беседили да с сутью другой, её раскрывали, и с ней считались. Яко и вопросы задавали глубокие, личные, да те, на коих скверна тенью плотно висела. Они и рассуждать на изъян силились, слова не подбирая, ибо в горе помехи не зрели, а яму точию мелкую нащупывали. И складно разговор тот тёк, и человек сражаться думал, да гниль ему супротив стояла. Она корень в мыслях попрекала. Дескать, не ведал советчик, иже молвил, он же в том случае не оказался, он его чувств не понимал, и то елико сложно сё, да не порожно, не ощущал. И сонмище якого чернь в оправдание подкидывала, лишь бы человек дело делать не починал, и он в то верил, да злость в нём копилась. А та из природы его шла. На себя же, по сути, гневался, да за то, иже не делал, да сызнова делать не собирался. И досаду выплеснуть ему хотелось, а того уде тело его просило, убо чернь плоть поедать начинала. И спасалось бедное, да аки ладило. А дума на корень указывала, он же предтечей сей злобы явился, а знамо, он в том и повинен. И то, яко вопрос тот болезненный, судом представал, кой на пути к счастью, незначительным бревном лежал, корню опосля токмо жизнь и портило. Человек же всяко из страданий ход найти пытался, да скверна его с той самой резью и страхом на тропе поджидала, и раз за разом горечь вспыхивала, оправдания ширились, а корень виноватым выступал. И доходило до пожара в главе, иже гранённый весь быт сражающемуся испортил, янысь, тот и сам себе судьбой являлся. Да ответственность, аки на суде общинном, никто брать не хотел, понеже и обида копилась, и выливалась та в слухи, а поодаль и в гонение. И токмо из-за того, яко человек в воду взглянуть боялся. А корень, и не ведал, иже его попрекали, он же не советовал, а рассуждал, случай, с разных сторон поворачивая, поелику и судил, от судьбы исток имея. И егда Белое братство о разборе, да кликах ведьмовских узнавало, эк по бубну представало, община ужотко за корень не вступалась, понеже зло на него держали, поди, все, да за якое-то, а Святые сему и радовались, им же суд их белый никто претворять не мешал. А за ведовство одно наказание полагалось – смерть.
И не прочил акого исхода Ядельраве Князь Краевой, посему и в силу её не верил. Той противился, высмеивал, да на древо зелёное и грань, за тем встающую, все возгласы скидывал, и деве глупой он то втолковать ежеденно пытался, да в том ему и вехи Белого братства подсобляли. Не от ведьмы же Ядельрава народилась, а от девки присной, зане и ведьмой быть не могла. Поелику то точию с кровью и плотью матери передавалось, а у той инда тяги к ведовству и его усвоению зерна в уеме не искалось. И настаивал на том Святосев Святовидич, да Ядельрава ему на Пересвета, сына Святомира, бесперечь указывала. Он же ведун, да матерью подённой рождённый, у коей и мать ведами не владела, а её мать о тех и не знала, и дотоль по всей утробе их жёньей. Одначе то ещё Святосев Святовидич допустить мнил. У Пересвета отец – Святомир, сын Святобоя, при Белом тереме Святоделом ратным прославился, и искусами владел тот отрадно. Да по роду его умение с десяток колен хранилось, то и в именах детей зиждилось. И, нехай, не пробуждалась кровь ведовская мужем воплощённая, инно волхованство сказывало, от сего и Святополк, Посадник Унчий, мощь брата по отцу не осязал. Да, эк наперекор, Тысячник Унчий знания от Белояра Мстиславича полученные одушевлял и споро. Отонудуже, отводил Ядельраве Святосев Святовидич, иже те с зерном в теле Тысячника при зачатии имелись, понеже и норовил Князь Горный те пробудить, а Пересвет их засим и пользовал. Одначе ни Ростислав, Князь Первь Великий, ни жена его, Евглава, искус не вязали, грань по воле не ощущали, да сверх людского не мыслили, а, знамо, и не дюжила Ядельрава ведьмой вековать. Ан всё ж она ей являлась, эко Святосеву Святовидичу то не претило. Он сё и по поступи её по земле его испытывал.



