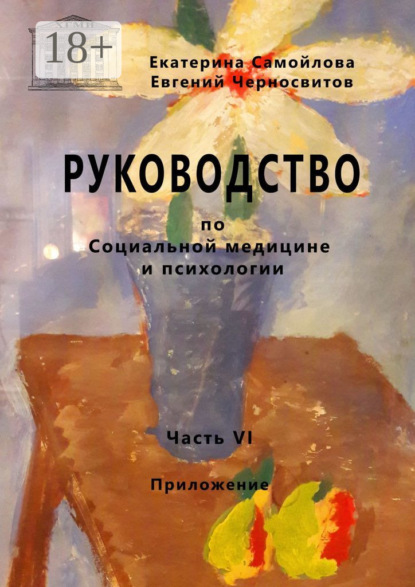
Полная версия:
Руководство по социальной медицине и психологии. Часть шестая. Приложение
Четких различий между функциями социального врача и психолога публичной и общественной ориентации нет, так как жизнедеятельность субъектов с врожденными или приобретенными девиантными или делинквентными формами поведения, как известно, протекает в различных микросоциальных средах, в которых он является носителем конкретных социальных качеств (отца, сына, руководителя, подчиненного и т.д.). И все же если публичный врач и психолог ориентируется на субъекта, конкретного человека, то общественный врач и психолог работают всегда с группой людей, которая представляет собой социальный организм и функционирует как единое целое. Клиентом общественного врача и психолога является юридическое лицо, а центральными понятиями – коллектив и криминальная толпа. Общественный врач и психолог, работая с группами людей (от рабочих коллективов до криминальных толп), часто сталкивается с таким социальным феноменом, как психическая эпидемия, а также с явлением (социальным механизмом) современной цивилизации – public relation.
Нами в течение 25 лет изучались толпы с девиантным и делинквентным поведением, а также психические эпидемии. Особое внимание уделялось армейским коллективам и психическим эпидемиям в армии и тюрьмы. Здесь мы коснемся лишь основных, на наш взгляд, проблем, связанных с криминальными толпами, психическими эпидемиями, а также с манипуляций общественным сознанием, с которыми встречается общественный врач и психолог.
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, диагностируя восстание масс, поглощение выделяющегося меньшинства безликой массой (говоря абстрактно, триумф fascia), писал: «Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду». Он дает такое определение толпе: «Толпа – понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии, и получим „массу“. Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы». Масса – более абстрактное понятие, чем толпа, хотя филологически меньшинство ближе к массе, а не к толпе. Четких дефиниций толпы не существует, как нет четких категориальных различий между толпой и массой. Но есть одно определение толпы, которое никак не применимо к понятию «масса». Это – криминальность. Криминальная толпа – более точное и четкое понятие, чем просто толпа. А вот криминальной массы нет.
Все великие мыслители ХIХ и ХХ вв., рассуждая о толпе и ее свойствах, обычно начинали описывать как раз ее криминальный аспект. Любопытно, как Густав Лебон, пытаясь отделить толпу от криминала («Преступления толпы составляют лишь частный случай ее психологии; нельзя узнать духовную организацию толпы, изучая только ее преступления, так же как нельзя узнать духовную организацию какой-нибудь личности, изучая только ее пороки») только усугубляет положение вещей: «Название „преступная толпа“ ни в каком случае не подходит к такой толпе, которая после известного состояния возбуждения превратилась в простой бессознательный автомат, повинующийся внушениям. Но мы все-таки сохраняем это ошибочное название, потому что оно узаконено новейшими психологическими исследованиями. Без сомнения, некоторые действия толпы преступны, если их рассматривать сами по себе, но тогда и поступок тигра, пожирающего индуса, также надо назвать преступным». Следуя логике Лебона, для толпы совершать преступления также естественно, как для тигра съесть индуса. Французский мыслитель не может себе позволить подумать о том, что любая толпа (как показывает богатая история «толпотворения») если не актуально, то потенциально криминальна. Быть криминальной – это психологический и социальный статусы толпы. Лебона понять можно – ведь для него толпа – и парламент, и присяжные заседатели, и люди на улице, и прихожане, собравшиеся на воскресную проповедь в храме, и военные, и духовенство, и секты, партии, классы и т. п. С другой стороны, в каждой отдельной толпе Лебон непременно указывает и на наличие криминального аспекта.
Итак, мы исходим из дефиниции толпы как криминального множества людей, или множества людей, объединенных одним общим для всех криминальным сознанием. Имея это в виду, следует констатировать, что в постсоветской России толпа есть социальный институт. Не проходит и дня, чтобы на просторах нашей Родины то там, то здесь под разными, невнятными с точки зрения здравого смысла, предлогами, собирались десятки тысяч людей. Какой общий мотив (не говоря уже об идее) может собрать на стадионе или летном поле несколько десятков тысяч людей – поглотителей пива и рок-музыки? И что «внутри» этой толпы? Наркотический транс, копролалия и копрофагия!
Как и всякий социальный институт, толпа в постсоветской России имеет все необходимые для «полноценного» функционирования атрибуты. Прежде всего это суггестия через средства массовой информации, индуктивно заряженная («зараженная») реклама, всевозможные PR акции, результатом которых, как бы они ни изощрялись, всегда является психическая эпидемия – нет толпы без психической, стремительно распространяемой и распространяющейся «заразы» (Густав Лебон, Габриэль Тард, Владимир Михайлович Бехтерев, Зигмунд Фрейд, Владимир Федорович Чиж, Виктор Хрисанфович Кандинский, Николай Николаевич Канторович, Карл Ясперс, Владимир Евгеньевич Рожнов и др.).
Когда толпа становится социальным институтом, общество вырождается. Если, было время, стадионы российских городов являлись «рассадниками здоровья», то сейчас, возможно, по чьей-то злой и циничной воле, они превратились в «рассадники заразы». То, что у нас весело и невинно подается в массы с экранов телевидения под понятный только избранным жаргон («тусовка», «драйв», «оттянуться», «корпоративчик» и т.п.), в странах, которым мы так неистово подражаем, давно названо своим именем и хорошо изучено. Имя этому явлению – «толпа как криминальный социальный институт». Так, Оксфордский университет имеет несколько сотен толстых томов трудов социологов, психологов, криминальных психологов, всесторонне изучивших действие на общественное здоровье и преступность кумиров 70-х гг. «Beatles», оставивших далеко позади себя по негативному влиянию английских футбольных фанатов. Ни для кого не секрет, что концерты Элвиса Пресли были для спецорганов США средством манипулирования массами…
Толпа как социальный институт в современной России – не свалившееся нам с неба на головы явление. Этот институт формировался и стихийно, и целенаправленно. Последние годы СССР породили два механизма, конституирующих толпу в социальный институт – очередь и так называемую распродажу в трудовых коллективах «дефицита». Социализм – это очередь в первую очередь! «Установки» Кашпировского по центральному телевидению и «радения» Чумака в общественных многолюдных местах (их легализованные последователи – шоу-экстрасенсы и экстрасенсы по вызову, также внесли значительную лепту в утверждение толпы в статусе социального института). Толпа как социальный институт – это N-ое множество людей (порой, целое государство или народ, даже раса, что неоднократно подчеркивали и Густав Лебон, и Габриэль Тард, и Николай Николаевич Баженов, и Карл Ясперс и Хосе Ортега-и-Гассет) определенного общего «умонастроения» и одной степени «зараженности» (суггестии). Пример недавний, прошлый – нацизм.
Отдельные люди, составляющие толпу, могут, как было в последние годы в СССР, в разное время, сидя у своих телевизоров в разных городах и весях СССР, принимать «установки» Кашпировского, пить «заряженную» воду Чумака, а потом, уже в построенном «здании» социального института криминальной толпы, возводить «конек» под общим названием «митинговая демократия», ударная сила «розовых революций». Схема «достройки» этого «здания» проста и очень похожа на отлаженные механизмы PR в современной России: сначала тяжелый рок, потом выступление партийного лидера, потом опять рок. И постоянно алкоголь, наркотики, в дальнейшем «больше пива» (пока без мюнхенских кружек) … Сорок тысяч русской молодежи на рок-фестивале на летном поле и море пива – узаконенная отцами города акция. Как ее квалифицировать? Только как частное проявление социального института толпы.
И это тоже – не наше, доморощенное. Во времена «великой французской сексуальной революции» пылкие речи любимца парижской секс-толпы, известного мыслителя XX в., уже престарелого, но весьма подвижного Жан Поль Сартра (вот его подлинный портрет поры битв сексуальной революции: седые нечесаные волосы до плеч, рваная рубаха, расстегнутая на впалой груди, рваные американские джинсы и стоптанные кроссовки – собственные наблюдения. Е.С., Е.Ч.) часто прерывались звучным лозунгом из трех слов: «Le trip! L’herbe! L’orgasme fort!», «The trip! The grass! The strong orgasm!»4 (См. фильм «Молодой Годар»). И, тем не менее «великая французская сексуальная революция» вошла в историю как бунт французской молодежи против власти капитала и буржуазных ценностей.
В современной России каждый 50-й человек является пенитенциарным субъектом. При этом каждый осужденный имеет родственников, друзей, знакомых, с которыми находится в тех или иных социальных отношениях. В среднем получается, что каждый 25 (!) гражданин России может оказаться клиентом пенитенциарного врача или психолога… Однако между лицами, составляющими организованную группу, занимающуюся несанкционированной деятельностью, и бандой, основная функция которой преступна, провести четкую грань невозможно. Таким образом, клиентами пенитенциарного врача и психолога являются как физические, так и юридические лица, как субъекты с хроническим девиантным поведением (те же бомжы, фрики, мизогиники и пр. социопаты), так и делинквентные субъекты, для которых преступление – способ социального самоутверждения или реализации (преступники-рецидивисты, несовершеннолетние преступники или не встречавшиеся никогда ранее у нас серийные убийцы).
Наш 25-летний опыт работы с пенитенциарными физическими и юридическими лицами привел к появлению обоснованных с нашей точки зрения понятий врожденный преступник и преступник с немотивированными формами преступной деятельности (к последним мы относим детей, совершивших тяжкие преступления, и так называемых серийных убийц). Отдавая должное границам понятий «зомбирование» (то есть, программа действия, совершаемого в результате прямой или косвенной суггестии), а также индуцированные поступки, PR, мы все же склонны искать причины немотивированных поступков в генетической мутации, когда из социально-психической структуры личности или группы лиц исчезают предпосылки и основания любых мотивов — моральность (эмоционально тупые социопаты).
Если иметь в виду поколения, пережившие социальные катаклизмы в нашей стране за последние 30 лет и продолжающиеся и сейчас катаклизмы, то о негативной мутации всех слоев населения (Ф. Гальтон) и деструктуации социума можно говорить a priori.
Клиентами военного социального врача и психолога в мирное время («мирное время» сейчас с локальными войнами и глобальным терроризмом – понятие весьма расплывчатое), являются, как говорилось выше, не только военнослужащие и члены их семей, но и все, с кем эта большая часть населения «граничит». В мирное время можно говорить об автономном социальном институте военной медицины. В настоящее «мирное» время не только в России, но и во всем мире нет границы «фронта» и «тыла». Точно также нельзя найти четкого определения понятию поле боя. В результате глобального террора, ставшего нормой жизни второй половины ХХ – начала XXI вв. на «поле боя» фактически находится каждый ныне живущий. Более того, на этом «поле боя» активно действующим субъектом может оказаться каждый, независимо от возрастных, половых и психосоматических различий (вспомним детские игрушки времен Афганской войны, начиненные тротилом и гвоздями, или мины-ловушки). Современные «камикадзе» (шахиды) полностью деформировали понятия «война», «мир», «армия противника», «фронт», «тыл» и т. д.
Понятие профессиональная армия, разрушенное еще Тиберием, возвысившим преторианцев (наемников) до ранга воинов профессиональной армии, вновь обретает смысл. Отсюда, военные социальный врач и психолог (в узком смысле этого слова) являются субъектами института социальной медицины, функционирующего в данном конкретном обществе и в данное конкретное время. Точно также клиент (физическое и юридическое лица) военного социального врача и психологии – весьма условные понятия. Тем не менее, мы попытались выделить и категориальный аппарат, описывающий конкретные случаи («казусы») с клиентами военного врача и психолога, будь то физические или юридические лица, для чего пришлось проанализировать в сравнительно-историческом аспекте множество военных понятий в стадии становления или переосмысления (профессиональная армия, терроризм и террор и т.д.).
Итак, существует крайняя необходимость создания в России института социальной медицины и психологии. Выше мы попытались предельно конкретно обозначить основные функции и предмет нового института. Нами разработан инструментарий, включающий и полный терминологический словарь, и методы, учитывающие особенности и традиции нашего многонационального государства, и его «текущий момент». В то же время, учитывая горький опыт издержек «красной» медицины с ее «реабилитацией» и «инвалидами детства», с репрессивной психиатрией («социально опасные» и «инакомыслящие» «больные»), мы особенно тщательно старались отграничить свойственные ей функции от ей никак не присущих.
В 1980 году нами совместно с А. А. Зворыкиным и Ю. А. Алферовым разработана оригинальная методика определения преморбида человека, апробированная на разном контингенте лиц (государственные служащие, занимающие высокие посты в министерствах; представители профессорско-преподавательских коллективов ряда вузов СССР и Болгарии; пенитенциарные субъекты всех лесных исправительно-трудовых учреждений СССР; лица экстремальных профессий; лица в экстремальных ситуациях – летчики-испытатели, космонавты). Результаты наших социологических исследований были опубликованы в сборниках ИСИ АН СССР, а также в монографии: А. А. Зворыкин, Е. В. Черносвитов. Тип личности и особенности характера человека – Изд. МГУ, 1982.
Клиническая медицина, социальная медицина и психология
Если бы эта книга предназначалась для врачей-лечебников, то разделы ее соответственно представляли бы собой: «Часть 1» – определенные болезни (психосоматические); «Часть 2» – основные способы их лечения (психотерапия). Это было бы узкое практическое пособие для врача-клинициста. Мы сразу подчеркиваем, что книга предназначена для иных целей. А именно, быть пособием по медицине и психологии для социальных работников (в том числе, социальных педагогов), незнакомых с основами клинической медицины. Поэтому, книга захватывает самые широкие аспекты, прежде всего, социального знания, граничащие с медициной. Этим определяется ее название и предмет.
Как нам известно, ни в нашей стране, ни за рубежом, подобных работ нет. Вместе с тем, (как будет видно по мере изложения содержания книги), общество Homo sapiens достаточно созрело, чтобы осознать и решать проблемы, которые находятся в компетенции социальной медицины и психологии. Эти проблемы подробно рассмотрены нами в книгах, указанных выше в библиографии к Преамбуле. Поэтому, мы не будем их перечислять, а отошлем читателя к названным страницам. Дальше – несколько слов, касающихся собственно настоящей книги и ее предмета.
За последние 20 с лишнем лет, в медицинские и психологические науки проникло, и прочно обосновывалось там, новое направление. Если медицина второй половины 20-го столетия все еще находилась на морфологических позициях и характеризовалась главным образом стремлением постичь болезненный процесс, как таковой, рассматривая его сплошь и рядом даже независимо от организма (хотя, каждый врач, вряд ли бы стал отрицать, что он «предпочитает лечить больного, а не болезнь»). То, в настоящее время мы являемся свидетелями иного течения, когда на первый план уже выдвигается не болезнь, как таковая, и не больной организм со всеми его особенностями и проявлениями. А, социально-морфологический статус (например, дюреровские пропорции человека и «золотое сечение» Фибоначчи). То есть, выражаясь популярно, человек, заболев, приобретает не просто болезнь, а – часть больного социального организма. Отсюда, в обществе, одним здоровым человеком становится меньше, одним больным организмом становится больше. Если, с точки зрения приобретенной болезни, заболевшему человеку нужен только врач, то, с точки зрения «больного» социального организма, заболевшему нужен не только врач, но и социальный работник, способный правильно ориентироваться в социально-биологическом статусе человека и на этом основании решать все жизненные проблемы, возникающие непременно как следствие «заболевания». Здесь, понятие, введенное нами со скрипом в начале века и разработанное основательно – социопат, становится трендом. Естественно, что при этом мы должны иметь в виду и врожденные недуги, и исходы заболевания со стойкой утратой (частичной или полной) трудоспособности и перверсии, легализованные в современном цивилизованном обществе.
Новое течение в медицине выделилось в специальный отдел общей патологии под названием учения о конституции человека (преморбиде). В связи с этим, сама клиническая медицина выдвинула на передний план проблему личности вообще и «больной» личности, то есть, социопата, в частности. Говоря другим языком, проблему социальных основ психосоматики (здесь «психосоматика» понимается в широком смысле слова, то есть, как организм личности, или организм социального человека). Решение данной проблемы лежит в выяснении взаимосвязей между социальной сферой, прежде всего, микро-социальной и особенностями личности. А личность предстает как телесный человек (организм), обремененный и деформированный социальными (микро – социальными) проблемами. В зависимости от своих врожденных особенностей (наследственности) и приобретенных социальных качеств и проблем, человек предстает как некий тип личности, со своими особенностями характера. Как это соотносится с социальной медициной и психологией, будет раскрываться в соответствующих разделах книги. Сама социальная медицина и психология всегда подразумевает некую форму индивидуального (конкретного) человека, субъекта (субъект, в смысле, лицо пассивно страдающее и активно действующее). Субъективность человека всегда существует как модус различного темперамента, таланта, характера, физиономии и других семейных или индивидуальных качеств человека. То есть, «пропорций человека» (Альфред Дюрер, Екатерина Самойлова, Евгений Черносвитов). Следовательно, своеобразие каждой личности (индивидуума) есть весьма сложный объект. Например – генетическое наследие, в виде особенностей строения тела и характера. С одной стороны. Наличие качеств одаренности или преступности (девиантности, делинквентности), с другой стороны. И все эти качества человека, так или иначе, входят в психосоматическую проблему, и имеют социальные основания. Для обоснования этого положения, обратим внимание хотя бы на такую характеристику человека, как его темперамент. Известные со времен Гиппократа четыре типа темперамента (холерический, флегматический, меланхолический и сангвинический) как бы нивелируются, когда человек предстает в своем социальном статусе и окружении. Уже воспитание и обучение, нужно подчеркнуть, не принимают во внимание особенности темперамента человека. Точно также, человек становится взрослым, а для его социальной деятельности темперамент оказывается тоже невостребованным качеством. И только в болезни, и, прежде всего, в социальной, темперамент раскрывается как одна из составляющих ее черт – преморбидной личности. Но – не более. Напротив, характер есть нечто, всегда отличающее людей друг от друга, в каком бы из статусов (социальных ролей) они бы ни выступали. Может показаться странным на первый взгляд, но и физиономия человека – более значимая его социальная черта, чем темперамент. Хотя, каждый почти понимает, что физиономия есть маска, которую человек «надевает», играя ту или иную социальную роль. Личность вообще есть per-sona (то, что «за маской», как говорили древние греки и римляне). Мы подошли, таким образом, к «нерву» социальной медицины и психологии. Процитируем Гегеля, что весьма созвучно нашему пониманию предмета рассмотрения. А именно то, что Гегель говорил о характере человека. В «Философии Духа» читаем:
«Мы заметили уже, что различие темпераментов теряет свое значение в эпоху, когда манера поведения и самый способ деятельности индивидуумов закрепляется всеобщим образованием. Напротив, характер есть нечто всегда отличающее людей друг от друга. Только в характере индивидуум приобретает свою постоянную определенность. К характеру относится, прежде всего, та формальная сторона энергии, с которой человек, не давая сбить себя с раз принятого пути, преследует свои цели и интересы, сохраняя во всех своих действиях согласие с сами собой… К каждому человеку нужно, поэтому предъявлять требование, чтобы он обнаружил свой характер. Человек с характером импонирует другим, потому, что они знают, с чем они имеют дело в его лице. Но кроме формальной стороны энергии для характера требуется и насыщенное известным материалом общее содержание воли… Еще более индивидуальные черты имеют так называемые идиосинкразии, встречающиеся как в физической, так и в духовной природе человека. Так, например, некоторые люди чуют находящихся вблизи кошек.»
(Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть третья. Философия Духа, М.,1956, стр.84—85).Гегель вплотную подходит к проблеме психосоматоза, говоря об идиосинкразиях. И это, логически, от понимания роли и значения темперамента и характера в социальной структуре личности. Если бы Гегель был врач, он наверняка дальше сказал бы о социальной медицине и психологии.
В «Ведении» мы не раскрываем содержание понятий (например, что такое социальная медицина и психология в узком смысле слова, (наряду с «психосоматозом» или «идиосинкразией») – для этого отведены специальные главы Руководства. Называя понятия (ключевые слова), тем самым мы обозначаем проблему, которая будет рассматриваться в связи с содержанием предмета книги. Пока мы говорим о социальной медицине и психологии, как социальных основах психосоматики. Или – о социологии психосоматики. Это значит, что «организм» человека рассматривается как социальное явление, несмотря на его генетический преморбид и социологический протоморбид. Поясним. Организм человека как физиологическое явление есть совокупность органов и систем (кожи, костно-мышечной системы, желудочно-кишечной, моче-половой, сердечно-сосудистой, дыхательной и т.д.) в определенных друг к другу пропорциях с «золотым сечением». Организм человека (психосоматическое понятие) как социальное явление есть, конечно, совокупность всех человеческих отношений, проявляющихся в жизнедеятельности человека. Это: 1. Отношений к роду (генетическая проблема), 2. Отношений к виду (социально-типологическая проблема), 3. Отношение к семье, к сфере деятельности, к сфере «привычек» и увлечений (микро-социальные проблемы) и т. д. Так, для иллюстрации сказанного, сошлемся вновь на Гегеля, который четко подмечал общее в индивидуальном. Социальное, в природном. Так, когда врач-клиницист говорит, например, о сердце человека, то имеет в виду мышечный орган, обеспечивающий кровообращение и имеющий определенное физиологическое строение. Когда поэт говорит о сердце, то создает некий образ «органа», отвечающего за эмоциональную жизнь человека. Никакой физиолог не смог бы понять Пушкина, что значат следующие его слова о сердце: «…пустое сердце бьется ровно…». Гегель дает такое определение сердцу человека: «комплекс ощущений». Это не поэтическое, а точное психосоматическое определение. То есть, опять же говоря словами великого немецкого философа, определение, в котором природное снято в социальном, индивидуальное в публичном.
Психосоматический организм человека, кроме выше названных характеристик, предполагает и такие качества, проявляющиеся в aon (жизнь как есть) говоря словами древних египтян, или curriculum vitae5 говоря словами древних римлян, то есть, в жизненном пути, замыкающемся в цикл, как 1) отношение человека к своему гению (опять же определение Гегеля), 2) отношение человека к своей судьбе. Кстати, к месту будет узнать, что думал Гегель о судьбе. Поэтому, процитируем его. В «Учение о понятии» «Науки логики», он, в частности, пишет:
«В античной трагедии спасает и отстаивает гармонию нравственной субстанции против напора делающих себя самостоятельными и поэтому вступающих в коллизию частных сил вечная справедливость как абсолютная мощь судьбы, и она, в силу внутренней разумности ее управления, доставляет нам удовлетворение зрелищем самой гибели индивидуумов»



