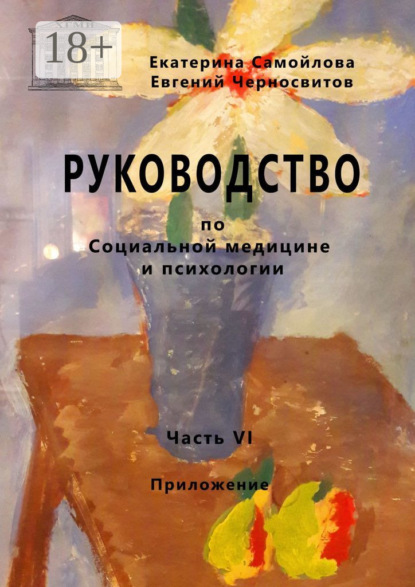
Полная версия:
Руководство по социальной медицине и психологии. Часть шестая. Приложение
Понятия «здоровье» и «болезнь» в клиническом смысле категории «общественное здоровье как предмет социальной медицины и психологии» находятся в «снятом» виде. Это значит, что в конкретном обществе (многонациональном государстве) появились тенденции, не свойственные данному обществу (историческим традициям, общенациональному характеру, социальной психологии и т.д.) и деформирующие его структуру, например, торговля детьми и детская проституция в современной России. Эти стигмы больного общества не объяснишь никакими негативными факторами, связанными с катаклизмами, которые пережила и переживает наша страна. Нет объяснения им и как феноменам «тлетворного влияния» стран, где торговля детьми и детская проституция – не новые стигмы, а девиации (от позднелат. deviatio – отклонение – авторы.) укоренившихся общественных нравов. Только в структуре знания о процессах, происходящих в нашем обществе с «человеческим фактором», которое может дать социальная медицина, можно понять, объяснить, а, главное, «лечить» эти негативные стигмы. Забегая вперед, скажем, что торговля детьми и детская проституция прямо связаны с таким клиническим симптомом, как дромомания (бродяжничество) и мизогиния (см. ниже). Вводя в социологию параметр клиники (в данном случае психиатрии и психологии), мы вплотную подходим к границе, четко разделяющей эти области знания, переступать которую опасно. Но об этом ниже. Здесь же выстроим цепочку развития названных стигм в постсоветской России: появление в результате криминальных последствий тотальной для неподготовленного общества приватизации, в том числе жилья, нового класса – бомж; качественная трансформация лиц «бомж»: бродяжничать начинают пограничные субъекты, имеющие и жилье, и семью, но отреагировавшие на социальные перемены эскапизмом – одной из крайних форм пассивного протеста. При этом на первое место выходит «эскапизм инфантов», т.е. несовершеннолетних. Здесь нужно говорить о стигме социопатии, при этом по многолетним данным миграционной службы России бомжи, в отличие от мигрантов (беженцев и вынужденных переселенцев), не являются гражданами «горячих точек».
Можно назвать еще две стигмы нашего больного общества, которые никак не объяснишь ни его историческими традициями, ни особенностью социальной психологии при катаклизмах в России. Это близкая к пандемии наркомания (если учесть при этом фармакоэпидемии: каждый второй – третий (по разным источникам) гражданин нашей страны, начиная с 12 лет, самостоятельно, без назначения врача, принимает лекарственные препараты; количество аптек на душу населения в России возросло за последние пять-семь лет в сто (!) раз. Никто не в состоянии провести грань, разделяющую лекарственных токсикоманов от истинных наркоманов (в клинической психиатрии есть синдром для обозначения данных состояний – политоксикомания). Пока для ученых наложено табу (весьма вероятно, криминалитетом) на исследование продуктов питания и различных напитков («биодобавок», «эликсиров молодости, здоровья и долголетия», а также средств личной гигиены, косметических средств) на предмет наличия в них полинаркотиков (допингов, психоаналептиков, транквилизаторов). В этой связи массовый потребитель наркотиков, появившийся в России на «голом месте», – отнюдь не следствие глобальных социальных перемен.
В первом социальном институте при Оксфордском университете, в отделении диетологии, должно были разработать нормы питания при разнообразных его видах, на основании которых социальные врачи могли бы осуществлять контроль за производством и качеством продуктов питания. «Здоровый образ жизни» в современной России, в которой фактически отсутствует социальный контроль не только за производством и содержанием продуктов питания, но и за средствами гигиены и лекарственными препаратами (так например, широко рекламируемые подгузники, рекомендуемые с младенчества, способны подавить рефлексы физиологического отправления и привести к глубоким, трудно исправляемым расстройствам, которые могут проявиться не сразу, а в любом возрасте; тампаксы и прокладки, задерживающие менструальную кровь, могут вызвать самые различные половые расстройства и бесплодие).
В СССР жили народы, для которых употребление наркотизирующих средств растительного характера как ритуал являлось исторической многовековой традицией (Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Таджикистан). Тем не менее, наркомании как «социальной болезни» в СССР не было. Так, в московской клинической психиатрической больнице №15 единственное наркологическое отделение, открытое в восьмидесятых годах, пустовало. Что же касается такой распространенной в СССР социальной болезни, как алкоголизм, то в настоящее время судить о количестве подверженных ей граждан не представляется возможным. Дело в том, что появились такие формы алкоголизма, которые клинически не диагностируются: пивной алкоголизм и алкоголизм, вызванный систематическим употреблением «баночных» или «энергизирующих» напитков типа «отвертка», «джин-тоник» и других, содержащих не только алкоголь, но и «мягкие» наркотики или психоаналептики. При этих формах алкоголизма происходит «ползучая» деградация личности, охватывающая прежде всего моральные и волевые качества. Но самое главное, клинически не диагностируемые формы «пивного» алкоголизма вызывают мутационные процессы в генофонде. Отсюда мертворожденные и нежизнеспособно рожденные дети и бесплодные браки.
Безусловно, к мутационным социальным стигмам нужно отнести и так же не характерные для нашей многонациональной страны серийные убийства, одну из форм так называемых немотивированных преступлений (здесь же, например, бегство из воинских частей солдат, убивающих товарищей, принявшее за последние десять лет эпидемический характер, и уход из семьи в бомжи в любом возрасте, импульсивные самоубийства и членовредительства).
В клинической медицине нет диагноза «мутант». Врачи не берут на себя ответственность говорить о негативных социальных явлениях как образе жизни мутантов, для которых девиантные и делинквентные (от лат. delinquens – совершающий проступок – Ред.) формы поведения являются клинической нормой, ибо вырождение ни в каком смысле не есть болезнь. Это современные социопаты – «фрики», как наиболее типичные. Врач не может поставить диагноз обществу, точно также как не может лечить общество («шоковая терапия» по отношению к обществу – изуверское понятие).
Социальный врач и психолог, как социологи, вооруженные знаниями и методами курации общественного человека (превращающегося сначала в человека толпы, в том числе, криминальной толпы, а потом – в вирулентного мутанта, способного вызвать психическую эпидемию в массах), оказываются по сути дела врачевателями человеческого общества. Но это возможно de jure, если в обществе социальная медицина и психология функционируют как институт.
Институализация социальной медицины и психологии в России – чрезвычайно актуальная задача.
Возьмем в качестве примера проблему «сексуальных меньшинств», не перестающую быть de facto актуальной в любом, самом стабильном демократическом обществе и принявшую отчетливую форму психической пандемии с криминальными толпами – ее непременным атрибутом. С социальной точки зрения гомосексуалист – вполне нормальный человек. Однако с точки зрения клинической медицины гомосексуализм – это или болезнь, или уродство как результат мутации. Гомосексуализм не является прерогативой человека. Он встречается у всех видов животных и даже у птиц. (Кстати, такое животное изгоняется из стада или уничтожается «собратьями»). В человеческом обществе гомосексуалы были всегда и отношение к ним было разное. Но ни одно сообщество людей за всю историю человечества, даже весьма лояльно относящееся к «сексуальным меньшинствам» (берем в кавычки, ибо это уже идеология!), не позволяло им навязывать сексуальному большинству свои формы поведения. Нет ни культуры, ни этики, ни религии сексуальных меньшинств. В произведениях гениальных гомосексуалов никаким образом не обнаруживается их сексуальная ориентация. Только в «больном», стремительно мутирующем обществе появляется «культура и эстетика» перверсных субъектов. Не нужно далеко ходить: нравы фашистов известны.
Представитель сексуальных меньшинств может быть клиентом социального врача и психолога только по собственному желанию, как и любой другой человек, попавший в силу различных обстоятельств в трудную социальную ситуацию. Точно также он может стать пациентом клинического врача. В обоих случаях его сексуальная ориентация может не играть никакой роли (разве что он заразиться вирусом СПИДа половым путем или другим венерическим заболеванием). Как возможный распространитель особо опасной инфекции он попадает под контроль, но не социального врача и психолога, а инфекциониста.
Социальная медицина и психология (в теории и практике это одна отрасль знания и один общественный институт), разрабатывающая нормы здорового образа жизни (о деформации этого понятия читай ниже, например, подростковый женский пауэрлифтинг) в здоровом обществе и осуществляющая согласно этим нормам социальный контроль за индивидуумом, группой индивидуумов, будь то семья, школа, трудовой коллектив, законодательные и исполнительные структуры власти, судебные органы, пенитенциарные учреждения или армия, не является чем-то чужеродным, стоящим над человеком и обществом. Она – отражение в знании и практике здоровых тенденций общества в целом, а также способ проведения этих тенденций в жизнь, обеспечения им жизнеспособности.
Здесь необходимо четко разграничить понятия «социальная медицина», «клиническая медицина» и демография.
Клиническую медицину можно рассматривать как свод теоретических и практических знаний о болезнях человека, способах их лечения, профилактики и о прогнозе результатов болезни и лечения.
Социальная медицина не ставит диагноза и, следовательно, не лечит ни отдельного человека, ни группу людей, ни тем более общество. Для социального врача человек – не пациент, а клиент, также как социальный врач как конкретный человек – клиент, например, для своего парикмахера или адвоката. Пациентами (от лат. patio – страдание) являются все, кто обращается за помощью к клиническому врачу или клиницисту: терапевту, гинекологу, психиатру или сексопатологу и т. д. Клинический врач, прежде чем начать лечить больного (пациента), должен выставить ему диагноз. Только при постановке диагноза допустимо назначать прием лекарственных препаратов (которые и сейчас, как и во времена Парацельса, остаются ядами, и принимать их можно только в дозах, требуемых больным организмом в борьбе с болезнью).
Противники социальной медицины как нормативной дисциплины, осуществляющей контроль за здоровьем человека в различных сферах жизни, неправомерно отождествляют ее с клинической медициной. Ведь и клиническая медицина (например, санитарный врач) осуществляет социальный контроль, требуя соблюдения норм гигиены. В некоторых случаях (например, в отношении больных, зараженных особо опасной инфекцией и скрывающих это) такой контроль может носить карательный характер: таковы, в частности, меры, принятые правительствами ряда стран в 2003 году в связи с вирусной пневмонией или в 2004 году в связи с «птичьим гриппом».
Однако клиническая медицина ни в коем случае не должна быть институтом с репрессивными функциями, реализуемыми под видом социального контроля. Так, в СССР социальный контроль за инакомыслящими превратил советскую психиатрию в карательный орган. Первый красный министр здравоохранения Н. А. Семашко в своей тронной речи обещал, что советская медицина покончит не только с туберкулезом и прочими заразными заболеваниями, но и с буржуазными болезнями, к которым он относил нервные, психические, сердечно-сосудистые и даже желудочно-кишечные заболевания. По его логике больной, перенесший инфаркт миокарда, должен пройти курс реабилитации, чтобы доказать свою лояльность советской власти и выздороветь. Термин «реабилитация» (лат. rehabilitatio – восстановление в гражданских правах) применяется со времен Ликурга, царя Спарты, только к преступникам, которых если не лишали жизни, то непременно приговаривали к гражданской смерти. (В России к гражданской смерти приговаривали только один раз: император Николай I – декабристов. Император Александр II отменил этот приговор). За годы советской власти понятие «реабилитация» так вжилось в отечественную медицину, что после тяжелой болезни реабилитации подвергается каждый, будь то ребенок или старик.
Социальная медицина рассматривает болезнь как частный случай ситуации, выйти из которой, оптимально сохранив социальные функции, помогает своему клиенту социальный врач (но не лечит!). По причине заболеваний человек может частично или полностью утратить свои общественные функции в силу, например, декомпенсации в «горячей точке биографии» (Айна Григорьевна Амбрумова, 1980, возрастные параметры человека – первостепенные точки отсчета в социометрических измерениях социального врача).
Прогностическая социометрия – еще один случай, когда социальный врач и психолог помогают клиенту (пример: могут ли родители, в анамнезе которых психические заболевания, иметь детей? какова вероятность заболеть психическими заболеваниями у них самих?). Генеалогическая и биографическая социометрия также относится к основным методам работы социального врача и психолога. Они, в частности, могут определить наличие врожденной склонности к преступности и, пользуясь методом Фрэнсиса Гальтона, в известной степени ее предсказать.
Социальный врач и психолог в повседневной практике оперирует категориями: преморбид, постморбид, стигма, строение тела и характер, patos et nozos, habitus, charisma, резервы организма. Социометрия позволяет вывести формулу смерти (читай Е.В.Черносвитов. «Формула смерти». Пятое издание. Ридеро, 2016), то есть с большой вероятностью вычислить, на сколько лет рассчитана работа всего организма или отдельного органа и органов, а также определить «горячие точки биографии» et cetera, et cetera. Раскроем эти понятия, рассматривая такой раздел социальной медицины, как публичная медицина и психология. Они «восстановлены» нами и разработаны согласно современным данным различных наук о человеке, прежде всего социологии, генетики, медицины, биологии, экстремальной и пенитенциарной психологии.
Социальный врач и психолог не только помогают своему клиенту выйти из трудной для него ситуации, но и вооружает знаниями, благодаря которым клиент может осуществлять контроль над работой своего организма и, что немаловажно, прогнозировать свои физические, умственные и творческие способности. И конечно, здоровый образ жизни из абстракции из расхожих советов и назиданий превращается в формулу жизни данного конкретного человека. Если врачу-клиницисту безразлично, из какой социальной или микро социальной среды его пациент, то социальный врач выделяет как раз наиболее значимые социальные параметры человека, согласно которым и рассматривается его проблема.
Публичный социальный врач и психолог придерживаются строго индивидуального подхода к конкретному человеку, но уже семейный социальный врач и психолог, даже решая проблемы одного члена семьи, занимается, по сути дела, конкретной микросоциальной группой и поэтому оперирует категориями общественной медицины и психологии. Проблемы осужденного человека, находящегося в заключении, а также членов его семьи, родственников решает пенитенциарный врач и психолог.
Стоит сказать и об еще одном важном аспекте, отличающем клинициста от социального врача. Клиницист, ориентируясь на симптомы и синдромы у своего пациента, выставляет диагноз лишь после дополнительных лабораторных исследований. Современная клиническая медицина вооружена новейшими методами электронной техники. Существует компьютерная диагностика. В результате клиницист оказывается все дальше и дальше «отодвинутым» от своего пациента инструментальными исследованиями. Социальный врач и психолог могут использовать некоторые дополнительные методы исследования, например, генетический анализ, но необходимости в лабораторных исследованиях у них нет. Они, наоборот, вплотную приближается к клиенту, работая с ним в прямом смысле tete-a-tete.
На основе новейших данных теории функциональной асимметрии нами восстановлен и разработан метод аудио-визуальной хеморецепции. Сейчас описание этого метода можно встретить в различной литературе, прежде всего, психологической, психотерапевтической (правда, вместо «рецепция» обычно употребляется термин «диагностика», что принципиально неверно, ибо диагностировать можно только болезнь, ее симптомы и синдромы, но отнюдь не особенности характера, личности или поведения человека).
Следуя традициям, уходящим корнями в методологию Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера, которые, пользуясь в том числе и математическими методами, изучали человека во всех его ипостасях (биологических, патологических и социальных), но не для лечения, а для познания его сути, а также Густава Лебона, Габриэля Тарда, Николая Николаевича Баженова, изучавших человека в толпе, человека толпы и толпы людей как органические, самостоятельно функционирующие структуры, особенно с девиантными и делинквентными феноменами (они также использовали методы математического анализа), мы ввели в теорию и практику социальной медицины такой параметр социометрии, согласно которому нашли определенные закономерности человеческого поведения, особенно в толпе (наша действительность последних 20 лет предоставила нам богатый материал; который осмыслен, проверен и изложен в статьях и учебниках в виде «казусов»).
Социальная медицина и психологи имеют много общего с демографией, но есть и значительные отличия. В 1999 году весь мир потрясло глубокое осознание феномена глобального постарения населения планеты. Этот феномен нельзя увязать ни с политическим, ни с экономическим, ни с идеологическим, ни с природным либо какими-то другими факторами, так или иначе, как правило, отражающимися в структуре прироста населения. Прямое следствие этого феномена – резкое (в геометрической прогрессии) уменьшение соотношения работающих и неработающих граждан той или иной страны. Оптимального соотношения – 1 (неработающий) к 15 (работающим) не было ни в одной стране мира. Благополучными были страны с соотношением 1:10 (Северная Европа). В катастрофическом положении оказались США и Япония – там это соотношение составило 1:6! (Соотношение 1:3, как известно, – состояние социального коллапса).
Но демографические показатели, опирающиеся в данном случае на понятие «старость», давно стали формальными, требующими пересмотра в содержательном смысле. Возраст 60 лет как возраст начала ухода на пенсию, был введен еще в 1884 году Отто фон Шенхаузен Бисмарком, 1-ым рейхсканцлером Германии, и давно уже не соответствует никаким научным данным ни клинической, ни социальной геронтологии. В 1999 г. в Германии эмпирически в ряде случаев стали оперировать понятием «старость = пенсионный возраст», принимая за исходный возраст ухода на пенсию в ряде Земель 40 (!) лет. Клиническая геронтология, определяющая старость по наличию так называемых болезней старости (прежде всего болезней Альцгеймера-Пика), давно должна бы пересмотреть возраст, с которого начинается отсчет старости, ибо «болезни старости» в конце ХХ века действительно (опять вне каких либо социальных причин) начинались в возрасте 40—45 лет.
Ни демография, ни геронтология не принимали во внимание качественный (а не формальный) критерий прироста населения. Так, при преобладании рождаемости над смертностью, но если этот прирост населения состоит хотя бы на 1% из нежизнеспособных или мутантов, качественную оценку состояния общества (в категориях здоровое—больное) сделать практически невозможно, как и прогноз соотношения работающих и неработающих.
Только социальная медицина и психология, рассматривающая рождаемость, доживаемость, смертность с качественной стороны, в состоянии оценивать и прогнозировать истинное положение дел в обществе с народонаселением. Вот пример, который пока еще не осмыслен ни социологами, ни социальными психологами, ни клиницистами. Можно придерживаться каких угодно взглядов на моральные качества человека – любая дефиниция здесь, как известно, будет абстрактна и потребует особого контекста для ее осмысления. Думается, Кант и сейчас не переставал бы поражаться «бездонным небом над головой и моральным законом внутри него». Но возьмите любой учебник по нервным болезням или психиатрии конца ХIХ и почти всего ХХ века: во всей Европе авторы начинают его со слов: «в наш нервный век…», посвящая первую главу так называемым «болезням совести». (Э. Кречмер, Е. Блейлер, С. С. Корсаков, В.М, Чиж, Н. Н. Баженов, Ж. Лакан, Р. фон Краффт-Эбинг, К. Ясперс и др.). Психиатрам эти расстройства хорошо известны. P.S. Сейчас, как никогда, актуальны аспекты положения человека в мироздании (Витрувий, Фибоначчи), которые поражали воображение Френсиса Гальтона: что такое врожденный преступник, однояйцевые близнецы, левши, гений и злодейство?
Последние годы прошлого тысячелетия и первые годы нового «потеряли» больных совестью! Это – реальное изменение в структуре психических заболеваний! Социальная медицина и психология видят в этом (не говоря о последствиях) глобальную мутацию в генофонде современного человека. Если провести социологическое исследование «новояза», то достаточно сказать, что слово «отморозок» переводится на все европейские языки. Макс Нордау со своей гипотезой о «вырождении человечества», как и З. Фрейд со своими «эдиповым комплексом» и инцестом как нормальными явлениями психологии современного человека, оказались пророками. К. Карлу Ясперсу пришлось в прямом смысле слова изворачиваться, чтобы примирить «здоровые чувства обывателя» с «фактами науки» (социологии и психиатрии), чтобы отметить положительно эмпирические исследования (социально-психологические, социально-психиатрические и чисто социологические), проведенные европейским социологом и психиатром Барухом (Бенедиктом) Морелем и обобщенные им в теории вырождения «четырех поколений».
К. Ясперс дезавуировал реальное положение вещей, в котором, согласно Б. Морелю, может оказаться человеческое общество, в генофонде которого появились признаки тотальной мутации, пространными рассуждениями об инцесте, инцухте и бастардизации, – это (если по Морелю) этапы вырождения морального (на первом месте!), интеллектуального (на втором месте) и физического (на третьем месте). Но если у Мореля термин «бастардизация» соответствует начальному смыслу слова, то есть означает «одичание», то у Ясперса это «прилив свежей, здоровой крови». Ясперс словно «забыл», как, например, древние латиняне «бастардизировали» Элладу, а норманны – цивилизованную Европу. «Забыл», чтобы «очистить ландшафт» для полчищ германцев Третьего Рейха.
Освальд Шпенглер в 1918 году явно «поторопился» со своим произведением «Закат Европы», имеющим подзаголовок «Очерки морфологии истории». На русском языке эта книга вышла в Киеве в том же году, но из постсоветских ее переводов (был и советский перевод – М.: Воениздат., 1941., не доступный широкому читателю) странным образом исчезли целые параграфы как раз о взглядах Б. Мореля, М. Нордау и Ч. Ломброзо, и имена эти не упоминаются даже в библиографии. Хорошо, что сохранены имена Ф. Ницше, Г. Спенсера и Т. Р. Мальтуса. Мы убеждены, что Шпенглер, используя в подзаголовке книги термин «морфология», имел в виду первоначальный смысл этого древнегреческого слова (morphe – праформа, а не «форма», как явствует из постсоветских переводов). А «праформа» и «клетка» – синонимы, ибо в природе праформа существует как клетка.
…Но вернемся к социальной медицине и психологии. Клиентом социального врача, работающего на поприще публичной медицины, является физическое лицо. Так как социальный врач и психолог не занимаются лечением, то они имеет дело с конкретными лицами или до лечения, или после того, как они пройдут курс лечения (результатами лечения бывает не только выздоровление, но и ремиссия, частичная или полная потеря трудоспособности, профессиональная непригодность и т.д.). В первом случае публичный врач и психолог решают вопросы, связанные с наследственными факторами клиента (наличие предков с криминальным поведением, самоубийц, бродяг, перверсных и пенитенциарных субъектов, больных с нервно-психическими заболеваниями и т.д., а также одаренных, талантливых людей). По разработанной нами на основе учений о болевых зонах А. Г. Захарьина, эрогенных зонах Ричарда Бартона и схем пропорций и диспропорций человека Альбрехта Дюрера и «золотого сечения» Фибоначчи, оригинальной схеме стигм, указывающих на наличие тех или иных мутаций в генофонде, публичные врач и психолог определяют преморбидные особенности человека, в которые включены тип личности и особенности характера (как врожденные, так и приобретенные). Точно также по схеме тела публичный врач и психолог определяют состояния и функции (степень их сохранности и процент утраты) на основании типа и особенностей постморбида (состояние человека – его личности и организма – после болезни или травмы).



