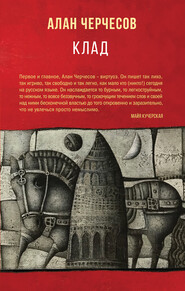
Полная версия:
Клад
Негодование Максима Петровича было законным и искренним, но унылым и постным, каким-то понурым. Несколько тягостных, низких вопросов тащилось за праведным гневом ползком, точно большая раненая змея, и не давало ни сна, ни покоя: почему она так поступила, отчего ее выбор пал на меня и что и кому собиралась своим идиотским поступком сказать эта фантомная женщина? Знать ответы совсем не хотелось. Хотелось лишь стиснуть покрепче проклятые скобки – до предела, в бессмысленный знак перевернутых, тоненьких губ, вкус которых он все еще помнил, но не как поцелуй, а словно ниспосланный символ (мимолетная нежность лобзания с грозой, прикосновение к запретному плоду, восхитительный приступ удушья). Он был так хорош, этот вкус, что проще простого казалось не верить в него, внушая себе, будто не было и самого поцелуя. Коли так, снимка не было тоже. А если и был, то такой же, как сотни других снимков смерти, снятых другими в других обстоятельствах.
За годы работы подобных картинок М. П. навидался немало. Отбирая их для журнала на потребу капризным читателям, он потрафлял и себе – тому привередливому инстинкту фотоэстета, с которым Максим Петрович безошибочно распознавал специфичную и многоликую красоту пойманной в кадр человеческой смерти. Часто ее красота бывала красива не в меру. Это мешало, как толстый слой грима на тонком, прозрачном лице. Приходилось ее чуть «калечить» и придавать естественный вид: совершенная смерть, как и жизнь, нуждалась в своих симпатичных изъянах, миллилитровых инъекциях облагораживающего уродства – необязательных родинках, покоробленной шрамом симметрии, вероломной морщинке на льдистом безукоризненном лбу. Работа была абсолютно стерильной: творя из смерти свои композиции, редактор всегда оставался к ней непричастен, как непричастен к убийству животных, из которых делает чучела, добросовестный таксидермист.
Впрочем, к смерти был непричастен и автор пошедшего в номер удачного снимка. Хотя внимательный взгляд Максима Петровича подмечал в поведении фотографов неприятные странности, будь то болтливость излишней бравады, драчливая спесь или нетрезвая, косноязычная замкнутость. Выходит, снимать смерть на камеру было сколь прибыльно, столь небезвредно. Если вдуматься, странно: читатель журнала смотрел на нее в тот же раствор объектива, что и сам репортер. Но при этом он мог преспокойно жевать бутерброд, отпускать скабрезные шутки или копаться в носу – ровно так же ведет себя зритель, таращась с дивана на новости. Неужели все дело в эффекте присутствия, что, как теперь очевидно любому, не сводится к изображению и звуку, а слагается из множества факторов, где первый и главный – собственный страх? Страх перед смертью и тем, что ты сам уподобился снайперу. Страх перед тем, что ты целишься в смерть, а убивает всегда лишь она. Страх за себя и за то, что тебе меньше страшно, чем твердила тебе твоя совесть. Страх того, что твой недостаточный страх, едва выйдя в тираж, неизбежно начнет вырождаться в ленивое любопытство, зевающее, жующее или копающееся в носу.
Размышлять об этом Максиму Петровичу нравилось. Людей он не очень любил, а потому с удовольствием собирал против них улики. Так было проще любить под сурдинку себя и, явись вдруг нужда, списать прегрешения свои на издержки природы. Ставя годами в заслугу себе пунктуальность ума, обожавшего ранги, разряды, системы и полочки, М. П. не мог просто так отмахнуться от принципов и пренебречь подозрением, будто повел себя несколько хуже, чем сделало бы большинство. Но какой такой смысл был бы в том, чтобы вместо вокзала мчаться в полицию и подвергать себя нудным, глумливым допросам? И как прикажете убеждать в своей невиновности тех, кто привык выбивать кулаками нужные показания? Зачем делать вид, будто ты разобьешься в лепешку ради мнимой, уклончивой истины? Разве это само по себе не есть ложь – осознавать никчемность стараний своих и притворяться, будто готов пострадать за какую-топравду, до которой тебе нету дела? К чему лицемерить и позволять своей совести спекулировать на кондовых высоких понятиях и затасканных громких словах? Не честнее ли и порядочней подчиниться, как он, чувству и интуиции, подсказавшим ему улизнуть с места самоубийства? Женщине было уже не помочь, а себе навредить – раз чихнуть.
Как по заказу, защекотало в носу. Максим Петрович замер, в елочку сгреб переносицу, подсобрал в арку губы, закатил в блаженстве глаза и щедро, наотмашь, чихнул.
– Во как! Стало быть, правда. Не вру.
Жаль только, снимок не удалил, укололся вдогонку упреком. Да и черт с ним, со снимком. Во-первых, скорее всего не найдут. А найдут – отпечатки-то смыло: только выбросил, хлынуло. Значит, небу так было угодно. А если уж небу угодно, нам ли на это роптать!
Зевнул во весь рот. Потянулся и щелкнул суставами. Пора и соснуть. Должно получиться: под боком никто не храпит, да и пахнет уютно, дождем, с распростертой на полке одежды.
– Шок не шок, а ведь здорово сообразил – обернуть чемодан в целлофан, – похвалил себя он и, булькнув застенчиво горлом, уснул.
Снились ему автоматы, отвертки, война и лицо, которое он точно знал, но упрямо, отважно не помнил. Ища невпопад рукой пульт, он сердился, потел, но терпел, понимая прищуром сознания, что в этом сумбурном и мстительном сне он сам и хозяин, и зритель, а значит, стократно успеет сменить свой прицел на другую картинку.
Все-таки славно работать редактором! Всегда можно вырезать то, чего не должно было быть…
Но тут под отверткой вдруг цыркнуло и, как шашкой по векам, ударила молния.
Стойте! Не надо. Я больше не выдержу…
Максим Петрович схватился за сердце и заклокотал.
– Извините меня, ради господа. В коридоре такая ужасная тьма, что не видно своей же руки. Проводник дал мне этот фонарик. Вы позволите? Вот мое место. Спасибо.
Легла на соседнюю полку и долго, подробно ворочалась. Максим Петрович хотел достать из кармана сердечные капли, но не дерзнул. С какой-то покладистой, мудрой печалью он заключил, что теперь непременно умрет. Всему виной ее голос – какой-то украденный, пришлый, чужой. Повезло, что пока еще ночь. Как рассветет, он уже нипочем не отвертится.
«Если это она, я погиб, – подумал М. П. и тихонько заплакал. – Боже мой, и за что мне такие мучения!»
Затворивши глаза, помолился и умер. Лежать на том свете хорошо было тем уже, что света там не было. Полежав в темноте, он придумал сойти на ближайшей же станции. Почти не дыша, чтобы не разбудить, оделся и потащил чемодан. Бежать, не проверив, конечно, позорно и глупо. Но проверять, чтоб потом не успеть убежать, как-то уж слишком неумно.
Поезд дрогнул, балдыкнул колесами и принялся тормозить. Не дожидаясь привокзальных мигалок и фонарей, Максим Петрович рванул дверь и, волоча за собой чемодан, задушенный целлофановой пленкой, поспешил в ближний тамбур. Пока машинист сбавлял ход, пассажир косился на лязгающую железными челюстями межвагонную перемычку и считал беспокойно секунды.
Наконец, вагон встал и шумно, с натугой выпустил воздух.
Человек сошел на перрон, огляделся по сторонам, проводил уходящий домой, украденный ужасом поезд и, глотая сердечные капли, стоял под бескрайним беззвездьем пустого и черного неба, плотнее и глубже кутаясь в ночь – непролазную, вечную, благонадежную, несокрушимую.
Лучше не видеть ни зги, чем увидеть всю правду, думал он, торжествуя и, как давеча днем, отдуваясь за всех.
Владикавказ, 28.11.2012
III
Бесфамильная башня
Палец в ране
Рассказ
Так уж у них повелось, что каждый мужчина в семье был отмечен судьбою какой-то легендой.
Начать с его прадеда Бзго, угрюмого деда отца, который, уйдя на войну, в первом же вялом, как дрема, бою угодил под обстрел и словил пустым брюхом осколок.
Очнувшись, Бзго понял, что умер, и по ногам у него потекло.
Стыд его обманул: поведя вниз глазами, Бзго посмотрел на живот, увидел, как бьется толчками, плюясь на войну, чернявая, злющая кровь, огляделся и обнаружил, что все остальные еще неживее его.
Дым от взрыва рассеялся. Небо кропило обмякшие трупы смесью гари, презренья и слез. Где-то под пяткой пузырилась, чавкала розовой лужей земля, понапрасну тягаясь с обильным молчанием. Тишина застывала вокруг глумливыми позами, кривилась дурными гримасами, пучилась осиротевшими взглядами, но не забывала проникнуть и внутрь: глотку Бзго свело немотой, а струсивший слух заселило впритык одиночеством. Рядом в окопе, упершись в приклад корешком от снесенного черепа, бочком костенел сослуживец. На плече у него примостилась чужая ладонь, потерявшая где-то хозяйскую руку. Прадед к ней потянулся, сорвал с мертвеца, как погон, отрезал кинжалом холодный мизинец, облил самогоном из фляги, помолился, ругнулся, да и пихнул себе в рану. Потом отключился, а когда – с воплем от жрущей ему потроха зубастой, прожорливой боли – воротился опять из сморгнувшего темень небытия, колыхался уже на носилках.
– Ловко ты, – хохотнул озадаченный фельдшер, – точно бочку затычкой.
Бзго ничего не ответил. Вместо него с той поры большей частью уже говорила легенда. И пока она говорила, он мог сколько угодно молчать и угрюмо смотреть в заповедную даль, неподвластную праздным расспросам.
Тем пальцем война для него и закончилась.
В лазарете Бзго провалялся несколько месяцев. Времени зря не терял: научился смолить самокрутки, резаться в карты, не спать по ночам, бесполезно мечтать, выиграл восемь рублей и медальку за храбрость, к ним в придачу – потертый «наган», обзавелся бородкой, умом и, пораскинув мозгами, всучил санитару целковый. Тот передал три врачу. Получив вместо сдачи бумажку с двуглавым орлом и заносчивой подписью, Бзго отправился с фронта домой.
Вышло, однако, не гладко: по стране затевалась огнями пожаров беда –революция. Приходилось нырять под ее суматошными пулями, сочинять впопад небылицы, клясться фальшивыми клятвами и растворяться мерзавцем в толпе, горланя оттуда хорошие, глупые песни. Покуда добрался, Бзго бессчетное множество раз поменял красный бант на казачью папаху, подводу на бричку, пыль на слякоть, а слякоть на снег и до гневной, задумчивой скуки дивился избытку бескрайней земли, за которую день воевал, полгода зализывал раны и теперь вот бессрочно, находчиво врал – чтобы жить на ней дальше и, если получится, выжить.
Под скрип тех колес его новая, длинная, узкая жизнь покатила своим чередом – от беды до беды, от удачи к удаче.
Так она и катилась потом, год за годом, ухаб за ухабом, молчок за молчком.
Покрасовавшись медалью с «наганом» в родном, но как бы присевшем на корточки и чуть поглупевшем ауле, Бзго метко, хотя и с налету, женился: работящая, резвая, злая, вдобавок не пугало вроде.
Зажили скромно, тратились скупо, одевались примерно – в обноски. Сон и мысли держали всегда начеку. Скудный надел над обрывом, доставшийся Бзго от отца, лишним по́том хозяин не пачкал, полудохлую клячу сеном тоже не баловал, зато часто ездил в долину и, воротившись, азартно молчал.
Как-то раз, едва не угробив галопом несчастную лошадь, он примчался из города, поковырялся в подполе, влез на крышу, водрузил над хадзаром[6] кровавое знамя, после чего заспешил на окраину и, приветствуя грозных гостей, принялся жадно палить в облака.
Маневр удался: вскоре он дослужился до увесистой круглой печати и «маузера». Помимо него поселковый совет составляли двоюродный братец и тесть.
Прадеду власть пришлась впору: суровый прищур и молчание в ауле весьма оценили. За вычетом пары глупцов, не нашедших общий язык с немотой председателя, никто от «красных» не пострадал.
Установив угодный ему и угодливый мир, Бзго счел за благо заняться делами семьи. Произвел честь по чести на свет сыновей, передал им в наследство осанку, смекалку, стальные, опасные руки, разжился упитанной тенью, в компанию к ней – урожайным хозяйством, приценился по ближним ущельям и, выбрав по роду и проку невесток, справил одну за другой полдюжины свадеб.
Годы шли, Бзго грузнел, матерел, ревниво следил за порядком, подкупал лишней рюмкой бессонницу и хоронил, с торжеством в нелюдимой душе, одряхлевших соседей. Помимо отдачи приказов (кратких и хлестких, подобно укусу бича), всего-то и было работы, что сочинять энергичные рапорты, ублажать подарками проверяющих и поощрять украдкой молитвами благосклонные небеса. Дома Бзго отдыхал, что, впрочем, ему не мешало наводить на счастливо-запуганных снох бодрящий, почтительный ужас, хмурить глаз на восторженных внуков и солидно, протяжно молчать, наслаждаясь протяжным, задумчивым эхом, издаваемым этим могучим, верховным молчанием.
Так, казалось, пребудет вовеки. Но рано ли, поздно, а всякую вечность разбивает в осколки мгновение.
На девятом десятке он дал слабину: заслышав из дома истошные крики, не усидел во дворе, заторопился в хадзар, дохромал до ликующей люльки, подхватил новорожденного правнука, забубнил ему радость в пупок, засмеялся, икнул, удивился и умер.
– Это он с непривычки, – ворчала старуха-жена. – Нечего скалиться было, коли всю жизнь бирюком промусолил. Смехом нутро надорвал, истинно вам говорю.
Может и так. Только полвека спустя оно уже мало кого волновало: подробности жизни и участи Бзго замазало дымкой забвения время. Живучей всего, чем покойник когда-либо удручался и тешился, истязал свою совесть или, напротив, гордился, оказалась… легенда про палец. Память людская, замысловатей которой была лишь людская беспамятность, откликалась в два счета на имя почившего Бзго все тем же окопным сюжетом, как если бы в нем обрела свою суть его непростая подвижная сущность. Палец в ране, отнятый с бесхозной руки, воплощал некий символ, в котором, точно игла в яйце, гнездовалась важнейшая тайна причудливой биографии. В сравнении с этой уклончивой тайной ни грехи, ни заслуги, ни должности Бзго почти не имели значения – оттого, вероятно, что представлялись (и были! – твердило чутье) ростками ее, хмельными побегами. Интересно, гадал злополучный первенец-правнук, как бы сложилась судьба старика, обойдись он тогда вместо пальца жгутом и тампоном? Но на это, похоже, у Бзго не хватило терпения. Или сил. Или стыда перед трупом. Или к себе уважения. Или почтения к Богу. Или разом – всего.
В отличие от прадеда, коего он, окатив младенческим визгом, уложил наповал при знакомстве, деда он знал и любил. Того тоже звали Маратом. Общее имя давало обоим ключ к близости – той, что пьешь ненасытно, взахлеб, даже если молчишь.
Должно быть, умение молчать обоим Маратам передалось по наследству. Только дед делал это совсем не угрюмо, а распахнуто, гостеприимно. В молчание его можно было войти, будто в открытую дверь, полную добрых шуршаний и уютных, целительных запахов, и оставаться там столько, сколько привольно душе. Молчание его всегда улыбалось. Хлебосольное, теплое, бывало оно живописнее слов: выговаривать речи Марат, дед Марата, был совсем не искусник.
Зато славно смеялся.
Ничего умнее, достойнее этого смеха внук потом так и не встретил.
Когда деда не стало, вместе с этим заливистым смехом ушла и надежда на то, что у жизни может быть все хорошо.
Под стать смеху была и легенда. В нее было трудно поверить, но еще тяжелее было испортить ее проницательным, подлым неверием. Скорее всего, случилось тут вот что: невзрачная ниточка правды сплелась с пестрой пряжей фантазий и вдруг зацвела своими исконными, сочными,точными красками – подобно тому, как после дождя оживает на солнце, засверкав переливами радужных струн, паутинная слюнка. Тогда родилась и легенда. А у легенд, как известно, бывает лишь дата рождения – день кончины теряется в каждом новом, на завтра отсроченном будущем. В общем, дата рождения легенды – тридцатые годы…
Дед Марат был еще сопляком и заканчивал школу в Ардоне, где стоял на квартире у материнской родни. Обнаружив в нем тягу к познаниям, Бзго предпочел не горбатить его на делянке, а подготовить мальца к институту и снарядить посланцем в столицу – подальше от гор, вовсю промышлявших доносами. По таким временам свой человек пригодится в Москве, рассудил угадливый предок и наказал усвоить побольше наук, особенно ту, как надежнее нравиться людям, особенно тем, кому нравится всех ненавидеть. Дед Марат, кому оставалось до статуса деда лет сорок, послушно внимал и, засучив рукава, усердно учился тому, как быть неопасно счастливым в самой счастливой стране с миллионом несчастий на каждом шагу.
Парень был на хорошем счету и уже через год, получив от директора школы драгоценную книжку талонов, харчевался бесплатно в столовой. У него было столько друзей, что врагов накопилось с лихвой. Угощать приходилось и тех, и других. За такую политику Бзго похвалил:
– Друг, пока сыт, не предаст. Недруг сытый на цыпочках красться поленится. Лучше остаться голодным, чем скормить себя голоду. Веди себя так, чтобы тебе никто не завидовал. Справишься – сам себе завидовать будешь. А другого тебе и не нужно.
Дед Марат был везунчик. Оттого-то Бзго его и избрал, практично пустившись по следу небесных намеков. Их было немало – с той поры, как двухлетний малыш скатился с телеги в обрыв, но не разбился о берег, а застрял на макушке сосны от гибели на волосок и, пока дожидался аркана, ни на волос с места не сдвинулся.
До семнадцати лет, в которые деда Марата настигла легенда, ему повезло столько раз, что небу в итоге сделалось совестно. По крайней мере, в то утро везение везунчику изменило: он проспал свой автобус. О предстоящей поездке во Владикавказ, куда его накануне каникул отправлял товарищ директор примерным гонцом, мальчишка мечтал всю прошедшую ночь, домечтавшись почти до рассвета, а там, словно выпрыгнув радостью в утро, забылся веселым, обманчивым сном. Пришлось обидно трястись на попутке в кузове с овцами, после чего, под брань бесконечных собак, плестись до вокзала пешком. Там Марат сел в трамвай и, уставившись в окна, напряженно считал остановки. На нужной, толкаясь, сошел и зашагал по проспекту, сверяя таблички на зданиях с адресом на письме. Город его поразил. Здесь было все то, что до этого было лишь в книгах. Голова закружилась от мысли: если этот маленький город – такой нестерпимо большой, легконогий, плечистый, проворный, какая ж тогда сотворится Москва?! Громыхали трамваи, моргали витрины, тявкали в ухо клаксоны, скакали косички девчонок, кувыркался снежками на рельсах удивительный пух тополей. Дед задрал кверху челюсть, блаженно прищурился и чихнул. Не чихнул, а прямо как выстрелил.
На деле, однако, стреляли другие. Не успел он дойти до угла, как услышал задушенный оклик и, обернувшись, увидел растрепанного человечка с искаженным от возбуждения лицом. Тот махал ему правой рукой, а левой хватался за грудь, оседая на мраморных лапах крыльца. Подскочив, Марат уложил его головой на ступеньки, разорвал воротник на седом кадыке и опешил со страху, разглядев, что сорочка под френчем забрызгана кровью.
– Спаситель! Родимый ты мой… – бормотал мужичок, вцепившись по-птичьи в плечо. – Зови постового.
Тот уже к ним бежал. Дед подумал рвануть наутек, но человек держал крепко.
Еще крепче вцепилась в Марата легенда – про то, как ему удалось укокошить одним своим чихом двух свирепых грабителей, забравшихся в дом к мужичку с разницей в десять минут. Дед проходил под окном в тот момент, когда оба налетчика, устав от взаимных угроз, молча держали друг друга на мушке и искали предлога достойно уйти восвояси.
– Их погубил чертов пух, – рассказывал внуку, смеясь, дед Марат. – И неисправный будильник. Вот и выходит: везение проспишь – разбудишь чужую удачу. Так что спи, пока спится. Сон отважнее яви. В нем любое хорошее – правда, а любое плохое – всегда чепуха.
Несмотря на сердечный припадок, мужичок настоял на банкете. Покрутив телефонную ручку, он связался с аулом и урезонил строптивого Бзго дозволить геройскому отпрыску задержаться в гостях. Потом протянул деду трубку. Тот приник к ней доверчивым ухом, но расслышал лишь скрежет да бульканье – бессловесную музыку втиснутых в провод пространств.
– Помехи на линии, – пояснил мужичок и потащил в ресторан. – Знаешь, что самое лучшее в жизни? Обнаружить вдруг кровь на рубашке и понять, что она не твоя, а твоих же убийц.
Только тут до деда дошло, что он потерял узелок.
– Плевать, – заявил угощатель. – Завтра одену тебя, как артиста. А послезавтра возьму и женю.
Грандиозные планы юнца вдохновили, и он позабыл про письмо, а когда о нем вспомнил, подумал: плевать. Оденусь артистом, женюсь – и в Москву! Так он впервые напился – до четверенек и утренних слез.
Наутро случилась суббота, и адресат не работал.
– Заместитель – мой кореш. Прорвемся, – уверил хозяин и, не теряя попусту времени, взялся со всей скрупулезностью причащать спасителя обрядам опохмеления.
В понедельник письмо потерялось. Во вторник нашлось. В среду достигло бюро секретарши и неприметно шмыгнуло под папку. Отмечали опять в ресторане. В четверг дед почуял, что стал алкоголиком, а в пятницу смылся в окно.
Когда он вернулся в аул, его как раз хоронили. Провожавшие гроб явлением призрака не вдохновились. Бзго закудахтал и выронил шапку, а мать заскулила и заслонилась снохой. Соседи, несущие гроб, брезгливо его уронили. Он был не так чтобы полон: какие-то тряпки без признаков тела, одевавшие раньше тело того, кто пришел с того света своими ногами на свои неурочные похороны.
– Разве ты не сгорел? – спросил сына Бзго и осторожно пощупал за локоть.
– А зачем? – удивился Марат и получил оплеуху.
Оказалось, неделю назад везение ему изменять и не думало. Напротив, сопровождало его по пятам, прихватив в обмен на услуги его узелок, в котором пожар поживился только бельем да рубашкой. Подобраться к значку, трем рублям, дневнику и тетрадкам, упрятанным дедом в жестянку, огонь не сумел, как ни тужился. Когда в запылавшем трамвае заклинило двери, Марат находился уже в трех кварталах от места трагедии и наблюдал, как выносят из дома два трупа, сраженных его громогласным чиханием.
– Конечно, приятного мало. Но поглядеть на собственные похороны со стороны все же куда веселей, чем качаться сосиской в гробу и толкаться душой черту в задницу. Я бы не прочь повторить тот же трюк еще раз. Или два. Как умру, передай.
Дед умер, и внук передал его просьбу отцу. Тот усмехнулся недобро:
– Про черта старик помянул неспроста. Везучей него мог быть только дьявол. В шесть лет попал под грозу, но не уселся под деревом, как остальные, а взобрался на скальные камни. Это его и спасло. Пять ребятишек и кошка сгорели живьем. Потом он тонул, но отделался парой царапин и приступом смеха, унимать который пришлось аракой да затрещиной. Потом на него напал волкодав, но напоролся глазами на грабли аккурат у сарайной двери. На фронте из целого взвода уцелел только дед твой да пулемет, которым он покосил, точно срезал колосья серпом, целую прорву фашистов. Три года под пулями фрицев – и ни единой царапины. И вот еще что: никогда не болел. И протянул бы еще сотню лет, не подавись вчера хохотом. Запить аракой на сей раз не успел, да и затрещину дать было некому. Не судьба, а насмешка над теми, кому не до смеха.
Отец говорил о себе. Как и Бзго, смеяться он не любил. Правда, молчание его было не перекличкой с заветными далями, не манящим уютом души, а защитой, железным забралом, из-под которого он наблюдал за враждебно смыкавшим ряды наступательным миром, только и ждавшим предлога для штурма его одиночества. Молчать рядом с ним было жутко – будто заглядывать в пропасть на лютом, промозглом ветру.
Отца своего Марат избегал и боялся. Точнее, боялся не столько его, сколько тенью стоявшей за ним безнадежности. Того, что нет ничего честнее и хуже нее – вот чего он боялся.
Отец понимал все на свете, причем на лету. Суждения его не знали ошибок, как и не ведали жалости. Вынося приговор, он не делал уступок ни болезни, ни возрасту. Когда мать заболела, он снял с депозита все деньги, купил два билета в круиз и сказал:
– На поездку нужны три недели. Отлежаться успеешь потом. Собери чемодан.
На работе предупредил, что вернется не раньше зимы:
– У меня умирает жена. Врач дает пару месяцев, так что октябрь-ноябрь я занят. Увидимся в декабре.
Марату и сестрам велел:
– Наревитесь, пока мы в отъезде, чтоб не осталось в глазах ни слезинки. Мать у вас умирает – не тонет.
Казалось, смягчи он удар, навсегда опозорится. Мать его прямоту одобряла, как одобряет любые погоды суеверный крестьянин, что, смиренно снося зной и дождь, заклинает подспудно наглядным своим, раболепным терпением небо – не обрушить на всходы погибель из смерча и града.
Мать никогда не бывала сама по себе, а постоянно трудилась придатком отца, его самой кроткой, безропотной частью, вечным «да», «хорошо» и «конечно». За тридцать лет брака оба сроднились настолько, что, не сговариваясь, могли бы заполнить одними и теми же числами два лотерейных билета. Только мать проиграла бы, а отец – тот бы выиграл. И, пожалуй, тут же забыл бы о выигрыше. Кто-кто, а он знал: по-настоящему важен бывает лишь проигрыш.



