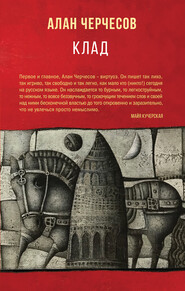
Полная версия:
Клад
Отец не умел видеть снов – совсем, словно жил на треть жизни меньше.
Мать в свои сны убегала, чтобы пожить своей жизнью хотя бы на треть.
Отец не особо верил в друзей, хоть их у него было много: людей привлекает в других суверенность, которой сами они лишены. Ему доверяли – как всякому равнодушию. В нем ощущали подпольную силу и тянулись к ней, как к колдовству. Он властвовал в дружбе, как властвовал в доме, но детей в друзья не пускал:
– Кто растит в сыне друга, получает в итоге предателя.
Умер он прежде жены, бросившись за борт круизного лайнера, чтобы спасти какую-то псину. А может, он просто решился покинуть их раньше, чем бросит его самого его самая лучшая, кроткая, ценная – то ли часть, то ли сущность.
Он утонул, не оставив долгов и предателей. Даже среди друзей и детей.
Он умер, и Марат осознал вдруг, что любил его больше, чем деда.
Потом ушла мать – доживать свои сны.
Отныне у жизни могло быть все только плохо. Все ее «хорошо» уместилось в щепотку легенд: про палец, про чих и про винт корабля, изрубивший на корм для рыбешек отважную душу.
Хоронили отца точно так же, как хоронили впервые деда Марата: папаха, костюм и сорочка без признаков тела.
Вот когда посмеялся и он, подумал Марат. И подумал: прадед умер от смеха, но то – с непривычки. Дед захлебнулся от хохота – как перегретый мотор. Отец принял смерть как-то уж слишком нелепо, всерьез, но, похоже, смеялся последним.
Каждый из них был примером. Прадед – того, как жить, чтобы выжить. Дед – как чихать, чтобы жить не тужить, отец – как из жизни внезапно исчезнуть, оставив судьбу свою с носом.
Всем троим было впору завидовать.
Постепенно Марат перестал видеть сны. Сперва они сделались быстрыми, рваными, куцыми – не поднимешь и не соберешь. После – глухими, упрямыми и неуклюжими. Они утыкались в него мокрой мордой, сопели угрюмо и подыхали, навалившись тушей на грудь, точно выбросившиеся на сушу маленькие киты. Когда они перемерли, Марат с облегчением вздохнул и стал увлеченно учиться обрядам частичного умирания – каждые сутки на треть. Или же третью себя? Разница невелика, пришел к заключению он и задался вопросом: может, это и есть наша цель – не жить все больше и больше, не жить все честнее, покорнее, чем давалось удачливым предкам? Может быть, наша жизнь – всего только крошечный палец в ране от жизни чужой, разнообразно, давно и сполна прожитой другими? Мертвый отрезанный палец в хлещущей яростью ране, на которую Богу не хватило терпения (или стыда), чтобы заткнуть подходящим тампоном и перетянуть жгутом. Отрезанный палец с безымянного трупа истории – вот мы кто. Те, на кого не хватило легенды. Те, кто дышит отравой сомнений. Те, кто смотрит войну и беду уже только по телевизору – даже ту, что стучится к нам в дом, когда дома нас нету. Те, кто смеется – навзрыд. Те, кто лечит себя от тревог тавтологией действий и слов, засоряя повторами будни и глотая зевотой их смысл.
Странное дело, но он перестал видеть сны, чтобы видеть сплошные кошмары. И главным кошмаром была для него мысль о том, что он умирает всего лишь на треть.
Выходит, в остатке всегда остается две трети. Две трети на чистую, честную жизнь.
Такой вот расклад. Такой вот расклад, вашу мать!..
Палец в ране легонько крутнулся, выдавив капельку крови.
Марат посмотрел на ладонь. Кровь была настоящей. Как, впрочем, и боль. Как и, мать вашу, жизнь…
Пловдив, 1 июня 2014
И будет лето…
Рассказ
Обычно горы молчали, так что беда подступала внезапно. И тогда людям приходилось заново пробивать тропы, разбирая завалы из камней, снега и грязной земли. Случалось, оттуда доставали изувеченные останки животных и вчерашних путников. Часто их все же опознавали, и чей-то род понимал, что стал беднее.
Потом горы опять молчали, глядя свысока на то, как отчаявшиеся уходят прочь в низину или идут за перевал, где земли было больше. Они шли в батраки и, конечно, знали об этом.
Иные, самые нетерпеливые и бедовые, отправлялись в абреки, промышляя разбоем и рискуя жизнью – своей и тех, кого они грабили. За кровь платили кровью, как платили ею за угнанного коня или поруганную цепь над чьим-то очагом.
От мести бежали тоже, чаще за перевал, срываясь со скудной земли всей семьей, всей фамилией. И почти всегда горы молчали, и никто не ведал, когда они заговорят…
Что-то толкнуло его в бок, и он проснулся. Дед уже спустил ноги на пол, клюка прошуршала по циновке и нащупала точку опоры. Дряблый свет от очага мешал по стенам тени.
– Сын Хамыца все видел. Тот, немой… – сказал младший дядя, и тут он разглядел его – в двух шагах от нар.
Новый дед жарко вздохнул, выбросил вперед руку, выхватил у сына ружье и поднес ствол к носу. Потом облегченно прохрипел:
– Слава небу!.. Святой Уастырджи не позволил тебе…
– Слава небу, – отозвался дядя.
Они немного помолчали. Мальчишка крепче вжался в циновку и снова опустил веки.
– Где ты их оставил? – спросил старик.
– У Синей тропы, – сказал дядя. – Только те уже узнали. Батраз его язык разбирает.
– Своди их к реке и спеши сюда.
Мальчишка услышал удаляющиеся шаги, дедова палка ударила его по ребрам.
– Просыпайся.
Он поднял веки. Глаза старика неясно сверкали, как теплая вода в деревянной кадке у ног.
– Поднимай дом. Собери детей. Будете помогать афсин[7]. Мальчишка вскочил, метнулся в центр хадзара, вынул погасшую лучину из подсвечника, разжег ее в очаге, вставил обратно. На женской половине заплескалось движенье. Он оглянулся и поймал кивок старика. Сжал кулаки и закричал что есть мочи. Хадзар наполнился криком и вытолкнул его во двор, в жидковатую темень.
Дом проснулся и ответил бедой. Старик, повязывая черкеску, отдавал приказания. Суета гудела, ахала, бормотала, швыряя непрочные тени. Мальчишка хватал заспанные руки братьев и пихал тех к стене, загибая пальцы в счете. Сестренка голосила в люльке, но забирать ее оттуда он пока не стал. Мимо проковыляла афсин, он окликнул ее, но та уже была у кладовой. Старшая невестка, подчиняясь ее знаку, вошла следом. Две другие срывали со стен шкуры и кидали на циновку, где он спал эту ночь. Кто-то задел кадку под нарами, и вода поползла по полу широко и бесшумно. Никто из братьев не заплакал, но на всякий случай мальчишка бросил на них свирепый взгляд. Сам он, тоже босиком, выбежал во двор и рухнул наземь, сбитый жестким плечом. Услышал ругательство и узнал старшего дядю.
– Ну-ка подсоби, – сказал тот, и мальчишка обеими руками вцепился в жернова.
Они подтащили их к забору и там оставили, пока дядя ходил за лошадьми. Седла, мягкие и широкие – не для езды, – уже покоились на спинах, а старший дядя придерживал их руками. Мальчишка прыгнул под навес, отыскал палки, перехваченные посреди сыромятными кожаными полосками, и подал мужчине. Тот затянул подпруги, привязал крест-накрест к седлу палки и перешел к другой лошади.
– Матери скажи – готово…
Мальчишка влетел в дом, подошел к кладовой и, чуть отвернувшись в сторону, позвал:
– Афсин! Оу!.. Афсин!
Старуха неслышно ступила на порог, взяла мальчишку за рубаху и крепкой рукой крутанула к себе.
– Чего уж теперь глаза прячешь? Входи, выносить будем. Остальных тоже веди.
Мальчишка поманил братьев пальцем, а самому маленькому сунул держать лучину.
Погреб оказался большим и прохладным, блики света скользили по нему желтыми шагами. Много было черного.
– Сперва это, – сказала афсин и указала на кожаные мешки с зерном и мукой.
Вчетвером они выволокли мешок во двор и, сопя, обжигаясь дыханьем, доковыляли до забора. Мальчишка подметил, что жернова свисают теперь с седла. Невестки выносили из дома шкуры и постель. Люлька с сестренкой стояла здесь же, во дворе, только чуть в сторонке, у коновязи. Смахнув пот со лба, он двинулся было обратно, но услыхал голос деда:
– Иди за волом. Овец погонишь последними.
Старик стоял на пороге, прямой и высокий, заслоняя влажный свет из хадзара. Он вытянул палец и ткнул им на восток.
– Подбирается…
Дядя поднял голову, проследил глазами и ответил:
– Пятно пока… Как в бурку вырастет – тронемся.
Старик подумал и сказал:
– Батраз его язык разбирает.
Дядя кивнул и тихонько засмеялся:
– Ага, только языком обоза не поймаешь!.. К тому ж таким коротким.
Старик нахмурился, потоптался на месте, потом, не сдержавшись, ударил палкой о порог.
– А с длинным языком куда угодно сбежать легко.
Сын осекся, вобрал голову в плечи и отвернулся, крепя новый вьюк. Из хлева было видно, как они молчали. Мальчишка вздохнул и вяло шагнул в глубь помещения, держа перед грудью вспотевшие руки. В потемках он нащупал балку, и мокрая воловья морда уперлась ему в кисть жесткой шерстью. Мальчишка открыл рот и постоял немного не шевелясь. Потом медленно простер вбок левую руку, поймал ремень и размотал узел. Вынул балку и потянул за ремень. Вол не упирался и шел кротко, послушно, так что ноги мальчишки дрожали лишь самую малость. У забора старик сам принял ремень, и они вместе смастерили днище для вьюка. Скарб копился на дворе крутыми пятнами, обирая дом, сарай и пристройку, те делались долгими и чужими. Мальчишка сновал во все стороны, поспевая на помощь и жадно вслушиваясь в тугую тяжесть повзрослевших мышц. Краем глаза он замечал, как старший дядя выволок из-под навеса повозку и кинул туда голую холстину, как торопились в деле невестки, перебрасываясь на ходу словами, как негибкие пальцы афсин давили эти слова, цепляясь за мешок, опираясь о скользкую стену, как через забор дед говорил с проснувшимся соседом и даже не звал того во двор, а потом отказался от подмоги и сухо благодарил, и ему отвечали сухие – прочь – шаги соседа, как круче выгибалось светлеющее небо, как гулко пустел дом, как кричал ребенок из люльки, как что-то портилось, портилось кругом, вытекая в бледнеющую ночь и пытаясь в ней удержаться.
А потом он услышал копыта и увидел их. Они вырастали из ночи частыми толчками и приближались к плетню. Их было столько, сколько пальцев на руке. Мальчишка посмотрел на старика, и целое мгновенье тот стоял не шелохнувшись в проеме двери, и лицо его казалось гладким, как ладонь. Затем старик вскинулся и спешно зашагал к коням. Мальчишка сглотнул слюну и перехватил взгляд афсин. Та не сказала ни слова, хоть смотрела на него, а не туда, где столпились мужчины, дети и даже невестки. Потом отвернулась и направилась в дом. Шла она неровно и неумело будто бы, кинув руки вдоль тела.
Пять и две, сосчитал мальчишка. Больше, чем мужчин в семье. Больше, чем у кого-либо в ауле. Чем даже может быть у одной фамилии. Он поежился и робко приблизился к коновязи.
– Несите, – бросил старик сыновьям, и те споро двинулись к хадзару.
Младший дядя на ходу отряхивал штаны, старший тихонько посмеивался. Женщины усаживали в повозку детей.
– Хорош, – говорил дед, и голос его был непривычно тонок.
Мальчишка глядел на конские зубы, белые и ровные, на крупные блестящие тела, слушал всхрапы и ни о чем не думал. Старик не видел его, как не видел людей за забором, безмолвно следящих за ним и за домом. Он не стыдился их и не стыдился подступающего света, пусть те и слышали его голос, которым до того он никогда не говорил.
Что-то кольнуло мальчишку в бедро, и он переступил на другую ногу, так же неотрывно глядя в конские зубы и теплые в утренних сумерках белки глаз. Он все еще так и не притронулся ни к одному из пяти, хоть и стоял совсем рядом. Кони были высокие, стройные и красивые, и их было столько, сколько пальцев на руке.
Из хадзара дяди вынесли мужчину, завернутого в бурку, тяжелого, как пара мешков с мукой. Они уложили его на землю, потом сходили за попоной и укрыли ею воловью спину, переместив вьюк на лошадь. Потом подняли среднего дядю на руки и привязали его постромками к волу. Видно было, как ходят под буркой локти и дядя шарит глазами по сторонам. Мальчишке свистнули, и он побежал, припадая на одну ногу, к загону для овец. Он откинул дверцу и принялся тормошить блеющее стадо, выталкивая овец наружу и ощущая жаркий запах вспугнутого сна. Из дому, держа в руках надочажную цепь, вышла афсин и зашаркала к уже готовому обозу. За забор она не смотрела. Сыновья помогли ей взобраться в бричку и развернули обоз к воротам. Дед позвал младшего дядю, тот подставил ладони, чтобы старик сел на коня, потом наполнил ему рог и протянул. Старик помолился и выпил. За ним выпили дяди. В бедре по-прежнему кололо, но мальчишка, подпрыгнув, легко пристроился с самого края брички рядом с невестками. Он заметил, что спеленатый мужчина на воловьей спине успел раздвинуть полы бурки и теперь ощупывал постромки бестолковыми руками. Другие дяди уже тоже были на конях, только младший – без седла и без подпруги. Дед выехал вперед и звонко крикнул. Обоз тронулся следом, и остатки тишины отпрянули прочь от него, цепляясь за забор и безмолвие тех, кто за ним ожидал. Из-за гор выбрался рассвет и расстелился по небу щедрой заводью. Стены, тощие и незнакомые, стояли посреди пустоты, сбоку от молчания и шума, в стороне от всего, что было, и всего того, чему уж не бывать. Мальчишка глядел назад на задвигавшиеся фигурки за забором и слушал копыта, перешептывание невесток, непокой детей, кряхтенье мужчины на воловьем хребте и мелкое позвякивание цепи. Он прикрыл глаза и почуял усталость. Обоз бежал по дороге на запад, в спину поддетый рассветом, и топтал свои тусклые тени. Бричка скрипела колесами, дрожала скарбом и телами. Мальчишка чувствовал эту дрожь. Он загадал, что до самого поворота не поднимет век и не посмотрит на афсин. Впереди был десяток дворов. Он знал, что никто в ауле не спит, и решил, что ждать с закрытыми глазами куда легче. Он жмурился, сбивал дыханье, но слов так и не было. На повороте бричка накренилась, и он понял, что дворов больше не будет, а значит, не будет и слов. Аул отгородился от них сплошным забором, сторожившим безмолвие.
Мальчишка повернулся к афсин и увидел, что та сидит, опустив голову и стиснув на коленях цепь. Никто из невесток не плакал.
Впереди ехал дед, прямо держа спину и упершись пятками в конский круп. За ним шли обе лошади, одна тяжело навьюченная, другая – чуть легче, но впряженная в бричку. Вол с живой ношей плелся немного позади и ронял на землю вязкую слюну. Потом были овцы и дяди верхом – младший без седла. Еще два коня покорно шли следом.
– До рощи выследил? – спросил старший дядя.
Младший кивнул.
– До Святого куста почти. Только ждать пришлось, покуда сон сморит.
– Оттуда, поди, верст пятнадцать до ихнего аула.
– Кто ж им виноват, – ответил младший. – Никто им не виноват. Сами виноваты.
Старший негромко засмеялся. Они смолкли. Дослушав, мальчишка потер бедро и подумал: отчего разболелось? Задел впотьмах обо что-нибудь. Не заметил даже.
Они подобрались к косогору. Дома внизу заслонили дорога и скалы. Под сырым вылупившимся солнцем река и низина казались красивыми. Глядеть на них ему не хотелось. Он обернулся и взял вожжи, чтобы слегка придержать лошадь, когда обоз покатится по склону. Старик впереди щелкнул языком и пришпорил коня. Потом подождал, деловито насупившись, пока те не подтянулись. Лицо его раскраснелось, а из-под шапки блеснули крупинки пота. Мальчишка бросил вожжи и отвернулся в сторону, но старик передумал и смолчал, спрятав в себе свой испортившийся голос. Дребезжала цепь в руках афсин. Лучше бы завернула ее в холстину, подумал мальчишка. Среднего дядю слышно не было.
В бричке завозились дети, и невестки шикнули на них, но только стало еще громче. Мальчишка спрыгнул наземь, пропустил мимо вола и овец. Старший дядя понял и, подхватив его под мышки, усадил к себе на коня.
– Не так, – сказал мальчишка.
– Без седла не удержишься, – ответил дядя. – И так сойдет.
– До перевала не поспеют, – сказал младший дядя. – А за него не сунутся, кровников испугаются. У тех двенадцать мужчин в роду.
– И нас трое. С ним – четверо, – сказал старший и хлопнул мальчишку по плечу. Тот спокойно выдержал их смех. – За пару коней и участок отмерят.
– Больше бы не запросили.
– Не запросят. А запросят, можно и дальше двинуться. Земли там пригожие.
– Попригожей наших. На наших двум воробьям – уже тесно.
Мальчишка чувствовал спиной кинжал и твердый дядин живот. До перевала он никогда прежде не добирался. Его отец бывал там. А до того бывал и дед – тот, настоящий…
Средний дядя снова застонал впереди, но оба брата притворились, что не слышат. Только старший сплюнул. Афсин перебирала пальцами цепь. Невестки возились с детьми. Мальчишка потер бедро и сказал:
– Сам хочу. Смогу и без седла.
Ему не ответили. Он думал о дороге, что шуршала среди скал и выгибалась темно-серой лентой по камням и земле. Вскоре они выехали к реке, и та долго тянулась под ними, убегая водой назад. Мальчишка задремал. Ни река, ни разговоры не мешали ему.
Когда он очнулся, солнце стояло высоко над головой, наблюдая за ветром и скалами. Он толкнул мужчину в бок.
– Я знаю это место.
Тот кивнул.
– Скоро будет аул, там есть люди нашей фамилии. Я был там с отцом. Я помню.
Младшего дяди рядом не было, и мальчишка увидел, что тот далеко впереди, близ старика. Дорога стала у́же, и обоз растянулся по ней на добрую сотню шагов. У развилки все остановились. Дед крикнул старшему сыну:
– Мы двинемся в объезд! Ты сам заедешь к Иналыку и скажешь, где нас искать. Сделай так, чтобы меньше расспрашивали. У излучины встретимся.
– Хорошо, – ответил тот.
– Я с тобой, – шепнул мальчишка.
– Он со мной переждет, – сказал дядя.
Старик не возразил и тронул коня. Сидя на бричке, скрестив под платьем ноги, афсин внимательно смотрела на мальчишку. Они долго не отрывали взглядов, и мальчишка подумал, что она знает о нем то, что ему самому пока невдомек.
Дядя спрыгнул с коня и присел на придорожный камень. Обоз скрылся за носом горы, почти не подняв пыли.
– Теперь мы воры? – спросил мальчишка и удобней устроился в седле.
Дядя распоясал черкеску и расстегнул ворот бешмета.
– Для кого – воры… Для кого – всадники. По мне, может, и к лучшему, что так обернулось. Худая земля, хоть своя, хоть чужая, только спину горбатит. А на ином скакуне плечи сами собой расправляются.
– Мой отец вором не был, – сказал мальчишка.
– Точно, – ответил дядя. – Его кобыла была старше бабки нашей афсин. А та, поди, лет сто уже к нам не заглядывала…
Он сложил руки на груди и лениво выбросил ноги.
– И дед мой никогда ничего не крал. Мой настоящий дед…
– Известно, не крал. У него коня отродясь не бывало. Сколько помню, волами перебивались.
– Еще лошади…
– Ага. Такие, что полверсты рысью проскачешь, глядь – а в руках одни вожжи остались от тех лошадей… – Он зевнул и мягко потянулся. – Вздремну чуток. Как солнце той горы коснется, разбудишь. Дальше гребня не отъезжай.
– Я тоже вор?
– Конечно, кто ж еще? – сказал мужчина и опустил веки. Он был похож на отца. Только тот был угрюмей и выше. И не был вором. «Он не знал, что вор – это хорошо. А я теперь знаю», – думал мальчишка.
Он ткнул пятками коня, и тот охотно зашагал по дороге, потом перешел на рысь, и они в минуту достигли поворота. В воздухе пыли уже не было, кроме той, что всколыхнули с земли они сами. Мальчишка погладил теплую шерсть. На таком коне можно хоть до перевала лететь. Он подумал, что вором быть легко и приятно.
Он отыскал тропу и, не слезая, пустил коня шагом к реке. Кусты оцарапали черные бока и задели арчита на мальчишьих ногах. Конь пил недолго и бесшумно, всхрапнув лишь пару раз, потом привычно, без команды, повернул и ловко вскарабкался по склону.
Мальчишка остался им доволен. Он поднял голову. Солнце подплывало к гребню. Скоро он разбудит дядю, и они двинутся дальше. Только править уже будет дядя, а не он. Но воры они оба. И старик, и афсин. Хотя крал их младший сын. А невестки, братья, сестренка в люльке? Они тоже воры? Мальчишка не знал.
Он взял галопом в сторону горы по тому же пути, где полчаса назад прошел обоз. Лицом он слышал ветер, чуял радость и сильное дыханье под собой. Потом поворотил и так же, галопом, вернулся к развилке. Дядя спал, слегка приоткрыв рот, и на отца уже был похож меньше. Глядя на него, мальчишка вздрогнул и что-то понял вдруг, и оттого ему сделалось потно. Он сглотнул твердое под нёбом и вслух сказал:
– Все. И невестки, и братья, и даже сестренка… Да, и сестренка, хоть и в люльке еще.
Он смолк, а вслед подумал: средний дядя тоже. Толстый и хлипкий, как прибрежный ил. Но он – тоже. И отец. И мать. И даже старик, тот, настоящий…
В глазах помутнело, и он крепче вцепился в поводья. Конь поднял морду и оскалился. Мальчишке стало жарко, и он рассеянно и долго вспоминал, глядя на подтертое гребнем солнце…
Конь переступал ногами и мотал головой. «Надо было и мне напиться, – думал мальчишка. – Устал, а до перевала еще добрых полдня. Но те все одно не успеют. Пешие – пятнадцать верст… Ни за что не поспеть. Ворам легче. Им хорошо. Нам хорошо. Вот только пить охота». Дядя спит с открытым ртом, будто пьяный или младенец. Отец не так спал. Как-то иначе. Сняли цепь с очага и оставили на откуп могилы… И никто в ауле не сказал им ни слова.
Он тронул коня, и они медленно скользнули мимо спящего мужчины. Что-то сдавило мальчишке живот, и он ощутил голод. «Я не ел с самого вечера, – подумал он. – Там, в арбе, лежат лепешки. Обоз далеко. Если быстро скакать, нипочем не догонят. Да и не станут догонять: те навстречу спешат, хоть столько верст пешком от Святого куста кого угодно к земле пригнут. Только теперь они снова верхом, в своем ауле лошадей одолжили. Значит, и до нашего добрались. Или вот-вот доберутся».
Он оглянулся. Человек у скалы превратился в темное недвижное пятно. Мальчишка не стал останавливаться и отъехал еще дальше. Сердце противно жевало в груди его кровь. Он растворил спекшиеся губы и тихо пробормотал:
– Когда далеко – всегда пятно. Все, что есть под небом, пятном становится. Даже горы. Пока глаза не прикроешь – и лица не вспомнить. Потому как и лицо – пятно.
Он оторвал взгляд от лежащего вдали человека, набрал полные легкие воздуха и с силой пнул конские бока. Животное рвануло вниз по дороге, щедро рассыпая копытную дробь и распарывая тугой ветер. Стало громко и легко, и легкость эта металась и звенела, мешая мальчишке поймать легкую мысль. Он скакал во весь опор туда, куда бурлила река, и знал, что его уже не догнать. Он крикнул, вышвырнув в бесконечность радостный вопль, поймал эхо и поймал ее, ту мысль, и она обожгла ему горло, и он опять крикнул, а потом рассмеялся в гриву коню. «Теперь я настоящий вор, – думал он. – Самый настоящий из всех, какие бывают. И легкость с голодом – в придачу. Дядя должен бы знать, уж он-то должен бы знать: коли вор близко, нельзя поддаваться послабе…»
Он расхохотался. Камни, кусты и вода мелькали перед глазами, торопя время и в бессилии перед ним отступая, размазывая его в одно огромное мгновенье. И он, мальчишка, был вброшен в это мгновенье и пил его глотками, утоляя жажду и обгоняя реку. Воздух был вкусный и свежий, как майский лед у вершины. Ее он увидит первой, едва достигнет Синей тропы. Он не собьется с дороги. Он ездил по ней еще с отцом. С тем человеком, что не умел красть и не знал, как это хорошо. Солнце еще высоко, и вершина сверкнет на закате красным…
…И вот теперь они молчали в чужом дворе, десять всадников, четверо из которых приходились ему братьями. Он давил в глотке обиду и ярость, в раздражении размышляя о том, что надо бы напоить выдохшуюся кобылу. С ночи они прошагали пятнадцать верст, а потом почти столько же скакали верхом.
– У них здесь нет родственников, – повторял старик, окруженный людьми, челюсть его слегка вздрагивала. – Наш аул за них не в ответе. Да не позволит Уастырджи им далеко уйти!.. – добавил он и воздел глаза к небу.
Все здешние мрачно кивнули.
«На наших конях они уйдут куда захотят и даже дальше, – думал Хамыц. – На наших конях они уйдут за перевал».
Во рту стало кисло. Он оглядел братьев и кунаков, но не давал приказа спешиться. Нужно было напоить лошадей и задать им корм, но для того пришлось бы развернуться и съехать к роднику. Он чувствовал, что еще рано. Тишина медленно сушила пот на лицах, оставляя на щеках грязные разводы.
– Будь они прокляты, – сказал он, но тишина отступила лишь самую малость. С досадой он подумал о том, что и десять здоровых мужчин могут быть слабыми. Не сильнее своих голосов. – Будь проклят их род до седьмого колена…
Люди вокруг потупились и переждали с минуту. Потом старик, прислонив ладонь к груди, сказал:
– Милость Всевышнего безгранична. Кара его неизбежна. Только человеку не дано торопить. Человеку дано подчиняться и сострадать, помогать и утешать. И дано человеку быть гостем и быть хозяином. Мой дом открыт для вас…



