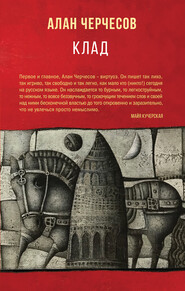
Полная версия:
Клад
Хамыц взглянул в лица братьев и увидел, что лица согласны. Когда нет выхода, бывает застолье. Когда и застолья не видно, значит, и выхода нет. Так говорил он сам. Прежде. Тогда еще он умел так говорить. Он умел это еще день назад.
– Благодарю тебя, хозяин. Покажи, где твой дом.
Младший из братьев спешился и предложил старику свою лошадь. Они выехали за ворота, провожаемые толпой, и у двора старика остановились. Тот первым слез наземь, за ним последовали остальные. Хамыц переложил плеть в левую кисть и только теперь поздоровался за руку со старцем. Они вошли в дом, и хозяин рассадил их за фынгом. Потом сел сам.
Рассеянно наблюдая за приготовлениями стола, Хамыц слышал боль в ушах и размышлял о том, что будет после. Получалось плохо. Сейчас он просто знал, что допустил ошибку. Он слишком думал о сыне. Он думал о нем больше, чем о семье.
– Там у нас уже есть кровники. За перевалом, – сказал он вслух.
Хозяин понимающе кивнул, и он продолжил:
– Их род богат мужчинами. Их столько, сколько месяцев в году. Уастырджи отвернулся от нас…
Старец поднял наполненный рог и произнес первый тост. Они выпили. Хамыц отщипнул от чурека и положил крошку в рот. Сквозь распахнутую дверь он видел, как режут, а затем свежуют барана. Ярость прошла. Чтобы не стошнило, Хамыц взял со стола пучок зелени. После второго рога хозяин заговорил о предстоящей жатве.
– Да, теплая нынче осень, – отозвался Хамыц и подумал, что сегодня он плохой гость.
Они снова выпили, и он почувствовал, как скопилась жидкость в желудке. Что-что, а с аракой он совладает.
– Земли у нас маловато, – сказал хозяин.
Пироги поспели, и их поставили в центр стола. Запах жарившегося мяса доносил со двора ошметки дыма от костра. Запах был назойливый и терпкий. Хамыц потянулся за новым пучком зелени. Он взглянул на Батраза и прочел в его глазах вину. Потом отвернулся и подумал: «Так еще хуже. Между нами два года разницы и мой сын. Только брат ни при чем. Просто он не боялся слушать. Это я боялся. Я не слышал собственного сына. Я хотел заставить его говорить и пошел против богов. Батраз ни при чем…»
– На весь аул земли не больше, чем снега на июль, – сказал старик. – Но мы привыкли. Нам хватает. Я сведу тебя к их участку. А хадзар их ты уж и так знаешь…
Хамыц поблагодарил. Вслед за ним поблагодарили и братья. Прислуживавший паренек плеснул араки в рога. Поверх пирогов уже дымился шашлык. В помещении было тесно, и время сюда не вмещалось. Оно трудилось за порогом и подносило в дом плоды своих дел. Скоро закат прикроет небо и позовет новую ночь. Только ей не сменить предыдущую.
– Поздно уже, – сказал Хамыц.
– Мой дом – твой дом, – отозвался хозяин.
Хамыц покачал головой.
– Дела ждут.
Старец помолчал, но возражать не стал. Потом передал гостю почетный бокал. В комнату вбежал хозяйский сын и, выжидая, замер у стола. После того как Хамыц произнес тост и отпил из рога, старик кивнул и разрешил сыну сказать.
– Мы словили их мальчишку. На кладбище прятался. Сослан с холма заметил. Мы словили его. Он на дворе.
Ярость вернулась и заныла в суставах. Хамыц с трудом отвел в сторону поспешность вместе с пустым рогом и поднялся, как положено, только после хозяина. Они вышли из хадзара.
Мальчишку держали сзади за руки, и он уже не вырывался. Пыли на нем было столько же, сколько и страху.
– Где коня оставил? – спросил Хамыц и подумал, что мальчишка все-таки старше его сына.
Тот смолчал, и тогда человек за спиной с силой тряхнул его за плечи.
– У меня нет коня.
Хамыц заставил его поднять ногу и внимательно осмотрел арчита. Затем приказал:
– Снимай.
Мальчишка медленно наклонился и скинул обувку.
– Пятки, – сказал Хамыц. – Покажи пятки.
Тот повиновался, и страху в глазах уже было больше, чем пыли на одежде.
– Отец его умер позапрошлой весной, – сказал старик. – Он был достойным человеком.
– Теперь они вернутся, – сказал Хамыц.
Старик покачал головой.
– Ни отца, ни матери. Под сель угодили. Тем незачем возвращаться. Воры в капкан не попадают. Сходи к тропе, – велел он сыну. – Приведи коня.
– Они должны вернуться, – сказал Хамыц. – Все же они горцы. Дам им три дня. Трех дней достаточно.
Старик пожал плечами. Мальчишка не сводил с Хамыца глаз. Сумерки заглушили половину отпущенного на сутки света. В стороне дышали угли от костра.
– Через три дня ты убьешь меня? – спросил мальчишка.
– Не здесь, – сказал Хамыц. – Все будет по правилам.
– Небо возвратило тебе коня, – сказал хозяин.
– Одного. Их было пять. И нас пять братьев. Даю им три дня.
– Небо возвратило тебе коня руками мальчишки.
– Верно. Коня я оставлю, а мальчишку отпущу обратно на небо, если оно не вернет всего, что забрало. Или законы адата не оно нам установило? Не небо?
Старик не ответил. «Я возьму это на душу, – думал Хамыц. – На то я и старший в роду, чтобы брать это на душу. Он все же взрослее моего сына. И одной крови с теми. Я больше не пойду против богов…»
Сквозь узкие щели в сарае он видел, как ссыпают с арбы плитняк. Голова шла кругом, но голод все не убивал его. Он не ел четвертые сутки, и до заката теперь оставалось совсем немного. Он не успеет умереть. Голод обманул его. Он зря старался. Вчера утром он последний раз помочился на каменный угол. Но не пить два дня оказалось тоже слишком мало. Его прирежут, как ягненка в жертвенный час. Он не сможет не кричать.
Дверь заскрипела, и в сарай робко вошел немой. Он постоял на порожке, опасливо примериваясь к расстоянию, которое предстояло одолеть. Мальчишка отвернулся и хотел презрительно сплюнуть, но слюна повисла на губах белым сгустком. Он крепче схватился за стену. Слышал, как немой быстро прошагал за спиной, сменил миску и опрометью выскочил вон. Глухо щелкнул засов. Дурак, подумал мальчишка. До сих пор боится. Он вытер рукавом рот и присел на земляной пол. Задетая цепь сыто звякнула.
Главное, смотреть перед собой, тогда меньше кружится. Он снова прикрыл глаза, хоть больше и не верил, что получится. Сперва-то он верил и лежал часами на спине, сложив на груди руки, и уговаривал себя умереть. Иногда ему даже чудилось, что он поймал ее, но смерть всякий раз ускользала, едва он подымал веки, пряталась в потолок, и вместо нее спускался страх. Когда он засыпал, ему снился собственный крик. Сон всегда заканчивался криком, а что было перед тем, припомнить он не мог. Сначала забывал припомнить, а потом уж просто не мог, хоть и пытался. Когда еще руки его были гибкими, он прочно охватывал себя за плечи и давил локтями на грудь. Только дыхание все равно было сильнее. Прошлым днем он подполз к той стене, где торчал крюк, и обмотал шею цепью. Конец ее тогда еще был прикован к его лодыжке, так что пришлось выше подобрать ногу, чтобы влезть в железную петлю. Он долго ждал, пока не свело судорогой икру и не стало совсем холодно, потом ждал еще столько же, убеждая себя сделать это. А когда убедил, кинул ногу вниз. У него почти получилось… Немой все испортил. Он навалился сверху прямо на глаза и стал срывать с него цепь, а сам мальчишка помогал ему бешеными руками. Потом кашель прошел, и он снова мог слышать. Немой жалобно мычал и водил ладонями по его ногам. Отдышавшись и перестав дергаться, мальчишка смотрел, как руки его подбираются к немому, ближе и ближе. Он смотрел и не мог помешать им. Потом руки впились кольцом тому в шею и нащупали на ней твердую точку. Немой отбивался, ударяя коленями его в пах, но руки все не слушались. Им просто не хватило сил. Уже тогда им не хватило сил, а немой боится до сих пор. Дурак, лениво подумал мальчишка.
Он покосился на миску, в которой парилась еда, но дальше не сделал ни движенья. Прилег на землю и уставился в потолок, слушая голоса снаружи и размышляя о том, почему немой смолчал. Один из них его язык разбирает. Если б нажаловался, уже бы было позади. Но с самого первого вечера никто в сарай и не заглядывал, не считая того раза, когда вошел Хамыц и разбил цепь на ноге. Дурак немой. Все дураки. И сволочь смерть.
Он что-то припомнил и вновь взглянул на миску. Он смотрел на нее несколько минут, потом ползком приблизился к ней и сдвинул миску в сторону. Блестело лезвие, он не обознался. Мальчишка взял нож в руки и повертел его перед глазами. Слушая, как сгружают с арбы плитняк, он думал: верхний ярус уже снесли. Должно быть, от дома уцелел один хадзар. Из него они устроят времянку. И будут жать с нашей земли.
У него не хватит сил пустить нож в дело. Да и не того немой хочет. Он не может желать смерти своему отцу. А ему, мальчишке, второго раза не выдержать. Он не убьет себя. Нет, второго раза не снести. Тот просто чокнутый. Он хочет чего-то другого. Только мальчишке не понять. Он устал.
Откинувшись на спину, он полежал немного, дыша как можно реже, чтобы не мутило от запаха из миски. Он больше не верил в то, что станет совсем легким и смерть подберет его, невесомого и покорного, и помчит туда, где он встретит покой, и мать, и отца, и, может быть, деда, и брата с сестренкой – тех, настоящих, кого она, смерть, прибрала давно уже, прежде еще, чем те уяснили, что у них кто-то есть… Он не ел трое суток и еще целый день, но так и не сделался достаточно легким. Он только измучился и устал.
Он услышал, как кто-то скребется в дощатую стенку, и приподнялся на локтях. Потом он понял, но еще колебался, не решаясь двинуться. Он все равно не успеет. И закат уже ближе стены. «Они не простят немому. И я ему не прощу, ведь я не успею. Я уж точно не прощу», – думал мальчишка. Голоса снаружи ничего не знали и были глупыми, как ветер или смех. Как любое из того, что лежит снаружи.
Он встал и неровно пошел туда, где начинались доски. Немой уже не скреб. Он ждал. Мальчишка упал на пол и принялся взрыхлять ножом неподатливую почву. Он не думал о том, что громко. И впервые не думал о еде. С внешней стороны стены вкатилась слабая жидкая струйка. Он переждал, пока земля впитает влагу, размышляя о том, как когда-то душил друга. Он снова взялся за работу, вонзая лезвие в лунку и выгребая оттуда землю. О закате он почти забыл. Яма росла и свежела, как четкий след в сумерки, и была теперь сырой и жирной. Ласково угасал свет сквозь щели, но его это не тревожило.
– Так не бывает, – бормотал мальчишка. – Может быть как угодно, только не так. Иначе он не простит мне.
Он заметил, что порезал ладонь, и опустил руку во взросший холмик. Ранка забилась землей и чуть кровоточила, отдаваясь изнутри частыми толчками. Теперь он копал вбок. Едва ли он слышал дыханье с той стороны. Над ним скатались в вечер плотнеющие тени. Он сменил руку и подобрал ноги, упершись в стенку лбом. «Потом я напьюсь, – подумал он. – Я выпью всю нашу реку от поворота до аула…»
Хамыц глядел в западающее за горизонт небо и ненавидел его. Целый день он желал хотя бы грозы, хотя бы дождя – любого знамения, но небо опять не помогло ему. Свод бесшумно и непреклонно свершил еще один круговорот и расслоился в желтом сумраке.
От долгого сидения затекла шея, и он потер ее, разгоняя кровь. «Я даже не спросил его, зачем вернулся, – подумал он о мальчишке. – Если, конечно, ему самому это ведомо. Только едва ли он знает. А коли и знает, так вовсе не то, что на деле. Но штука не в нем. И не в его гордости. В ином штука…»
Он сидел на голой коновязи спиной к дому и сараю, сложив меж ног руки и дожидаясь чьего-нибудь оклика. За эти дни из плитняка выросла у забора горка, от которой каждый из братьев старательно отводил глаза. Камни ценой в тридцать верст, туда и обратно, сложили посреди двора могилу – их позору, их же собственными руками, будто не разумнее было раскидать плитняк прямо там, на месте, а остальное сжечь в первый же день, чтобы – ничего, кроме праха и тлена, ничего, кроме пепла на пятачке земли, вскормившей подлецов.
Только ведь месть, покуда не пообвык, завсегда рукам работу ищет. Он опустил голову, слыша спиной присутствие сына. За трое суток он выучился слышать спиной. Его сын часами торчал у сарая, и ни разу он его оттуда не погнал. Вот в чем штука. А потом сам сбил цепь с ноги мальчишки. Цепь была лишь поводом. Батраз сказал ему про нетронутые миски, и он тут же, не откладывая, взял тесак, молоток и направился к сараю. Только он не стал смотреть мальчишке в глаза. Он не смог себя заставить, хоть затем и пришел.
Его сын стоял за спиной, а в остальном было тихо. Тревога уже не копилась, а просто присохла изнутри липкой гарью.
Они похитили не коней. Они похитили надежду. Или то, что в нем было вместо нее. И небо вдобавок подсунуло этого мальчишку и выделило тому на стражу его сына. Оно опять схитрило. Оно всю жизнь с ним хитрило. Потому и сделало хозяином раньше срока, потому снабдило потомством, лишенным речи и просто человеческого голоса. А после оглушило его самого – настолько, что не слышал собственного сына. Слышал Батраз и слышала мать его ребенка, только та не в счет: мать ведь всегда слышит.
А когда он захотел что-то исправить, оно отняло у него надежду, да еще принудило шагать по бескрайней дороге к своему позору с седлом на плечах, и рядом – жирная овца… Оно вернуло ему коня, но так и не вернуло братьям, хоть те не по своей вине потеряли. И теперь он ждет чьего-нибудь оклика.
Он смотрел, как стекает за гору закат, как по следам его крадется ночь, и длинно размышлял.
Вздумал с ним тягаться, и оно, небо, покарало его. Братьев он взял для отвода глаз, сказав, что в крепость дом присмотреть (будто было на что покупать!), а они поначалу не поняли, но ничего не спросили: на то он и старший. Но когда сделали привал в полуверсте от Святого куста, им стало ясно. Быть может, и раньше – иначе зачем им овца, самая жирная в стаде? И зачем бурдюк с аракой? Он вздумал солгать и выбрал будний день, чтобы с рассветом принести богам жертву и просить их спасти сына; и дать ему быстрый язык вместо ленивого; и спасти отца в себе самом; и мужа тоже, ибо за семь лет он перестал быть и мужем, не только отцом. Он долго терпел свое безверие.
Веру он потерял давно. С тех самых пор, как она убила его отца. Его нашли в ближнем дзуаре, в святилище, с перекошенным ядом лицом и раскинутыми по полу руками. Они исцарапали всю землю вокруг, а святые дары откатились к стене. Там же, у стены, отыскали потом и гнездо – тихую ямку с гладкими краями. Только никакой змеи там уже не было. Никакой змеи, лишь отравленная насмерть вера в искаженном лице.
Через несколько дней он вернулся туда. Сперва ему не было страшно, и он не спеша обложил дзуар сеном. Вставало утро, ветер дул ему в спину. Он глядел, как занимается пламя, и глотал сладкую слюну. Ему хватило сил запалить все сено, а потом стоять и ждать, когда огонь примется за постройку. Дым чернил пожаром спугнутое небо и бежал за облаками. Хамыцу не было страшно, и он лишь отошел в сторонку, чтобы лучше видеть. Несколько раз что-то треснуло внутри, и он подумал: кости или рога. Костей там много, охотники на жертвы не скупились.
Он досмотрел до самого конца, до тлеющего обугленного остова. Так что теперь нужно было шагнуть да пнуть ногой подпорки. Только он не стал этого делать. Это было страшнее даже, чем поджигать. Ему никогда не было так страшно…
Когда сын родился, сперва Хамыц запрещал себе думать о каре. И даже тогда, когда думали все, и после, когда все смирились. Он ждал два года, но сын так и не заговорил, хотя и не молчал. Это-то хуже другого было. Дом полнился его рваным мычаньем из беспомощной глотки и сторонился крошечных суетливых рук. Только он, Хамыц, решил ждать и третий год, но сам перестал говорить с женой и за семь лет ни разу ее не коснулся. Да, он ждал еще семь лет. И когда понял, что то не возмездие ей (не может быть возмездием его мука!), и понял, что лгал – лгал давно и даже прежде, чем превратился для нее в немого сам, добровольно, – больше уж молчать не мог и тогда вспомнил про Куст. Разрешил себе про него вспомнить.
Он все же пошел к богам, но – и против богов, потому что – в будний день, обманув сына, жену и братьев, желая сделать все как бы ненароком, невзначай, попутно… Только невзначай не каются… Он ненавидел небо.
А оно предчувствовало, готовилось и знало еще с весны, когда впустило его гостем в дом людей, готовых стать врагами. Когда позволило болтать и хвастаться конями. Когда свело его три дня назад с одним из них на дороге и показало этих коней. Когда Хамыц смотрел в его глаза, а оно, небо, уже знало и не заставило его насторожиться. Оно знало и потому наслало той же ночью пудовый сон на всех шестерых, из-под которого сам он выбрался последним, а первым – сын, немой, но не глухой, видевший и видимый, испуганный и недвижный, пока тот не убрал ружья и не рванул с поляны в плотную ночь. И даже копыта их не пробудили. Только выстрел, но было поздно. Сын сам взвел курок и сам же выстрелил. А он, Хамыц, вскочил, и не понял, и ударил его наотмашь по лицу, хоть сын был ни при чем. Он как умел боролся с немотой, влитой в него отцовой кровью… Вот в чем штука!..
«Я знаю, – сказал он себе. – Оно хотело, чтобы я смирился раньше. Много раньше. Оно хотело, чтобы я просил тогда еще, в самом начале. Чтобы я стал перед ним на колени и закидал алтарь жертвами. Чтобы принял эту немоту и сдался, а потом умолял небо о милости. И хотело всем показать мою покорность. И чтобы я признал свою кровь порченой. Ему нужно было мое раскаяние. А теперь еще нужен и грех мой. Оно хочет в жертву мальчишку. Дело не в нем и не в конях. Дело во мне».
Он вспотел и протяжно, неловко дышал, распахнув на груди бешмет и прочно упершись в землю ступнями. Воздух был прохладный и густой, будто вымокшая в ливень бурка. И был темный. Хамыц почувствовал першенье в горле и, запинаясь кашлем, обернулся на шаги. Мальчишка двигался, пошатываясь, от сарая к дальнему концу забора. Он был тонкий и прямой, как обглоданная кость, и Хамыц подумал: не дойдет, а коли и дойдет – не перелезет. Он наблюдал, как мальчишка прислонился к забору, повис на нем, а потом перекинул тело наружу. Сын бежал, воздев в мольбе руки и жалобно скуля на своем языке. «Бедняга, – подумал отец. – Еще не знает, что я уже решил. Пусть без знаменья. Может, опять против неба. Пусть я его буду чураться всю жизнь. Я решил. И да простят меня мои братья!..»
Он подхватил сына на руки, слушая ладонями испуганное сердце и приказывая себе выдержать.
Мальчишка спал всю ночь. Дважды он просыпался и едва успевал выползти за порог, как его тут же выворачивало. Потом он снова возвращался к циновке и укладывался близ немого. Пахло теплом, и, окунаясь в сон, он успевал вспомнить, что стосковался по этому запаху. Он спал до самого утра, а после, опять наевшись до отвала, спал еще и в дороге, лежа на тряской арбе.
Когда он слез у своего хадзара, Хамыц подал ему корзину с едой и снова спросил:
– Не передумал?
Мальчишка отрицательно мотнул головой и спрятал руки за спину.
– Бери, – сказал Хамыц.
– Мы не договаривались, – ответил он.
– Ну так можем договориться, – сказал мужчина. – Бери.
Мальчишка взял корзину и, поразмыслив, сказал:
– К лету верну. Вместе с огнивом. К лету я раздобуду свое.
Хамыц усмехнулся и кивнул. Из-под холстины он вытащил цепь и тоже протянул мальчишке.
– От моего сына. Тебе ведь нужна цепь?
Тот согласился. Мужчина развернул коня и тронул. Мальчишка крикнул ему вслед:
– Летом я привезу ему овцу в подарок! Ты передай! Я верну корзину и подарю твоему сыну овцу!
Хамыц не оглянулся. Он ехал быстро и был уже у поворота.
– Летом мы снова будем в расчете! – прокричал мальчишка, сложив крыльями ладони у рта.
На улицу высыпали соседи, и он коротко их поприветствовал. Вошел в хадзар, сложил у стены корзину и цепь, достал из-за пазухи нож и бросил рядом, потом уселся на пол, подобрав колени к подбородку. Он оглядел пустой дом, поискал глазами хоть что-нибудь, но ничего не увидел. Изнутри дом был таким же точно, как когда они его покидали. Только лестница теперь вела прямо в небо. «Ладно, – решил мальчишка. – Мне ярус ни к чему. Я стерплю и без яруса».
Он опять задремал, уткнувшись носом в колени, но потом спохватился и встал. Вышел во двор и наскреб по пучкам охапку соломы с разоренных крыш. Потом собрал под навесом клочья шерсти и смастерил себе постель. Очаг он разводить не стал. Как-нибудь перебьется: несколько дней всего. Заняться больше по дому было нечем, и он сходил на улицу, чтобы уж разом покончить со всеми делами. Он подождал за забором, и когда сосед вышел к нему, поздоровался и сказал:
– Мне нужно ружье без патронов.
Сосед молчал, озадаченно теребя бороду, и тогда он добавил:
– Ты дашь мне ружье без патронов и возьмешь взамен урожай с моей земли. Не весь, понятно. Часть сыновья твои сложат в моем амбаре. Седьмую часть зерна. А лучше – помола. Только сейчас ты дашь мне ружье.
– Зачем тебе? – спросил сосед, и мальчишка сурово взглянул на него.
Они помолчали. Потом мальчишка произнес:
– Я могу предложить и другому.
– Ладно, – сказал сосед. – Пойдем в дом.
– Позже, – ответил мальчишка. – Когда досуг будет. Сейчас мне позарез нужно…
– Ружье, – перебил мужчина. – И без патронов.
– Точно, – сказал мальчишка. – С ними, с патронами, возни много. Да и пальнуть всегда охота.
– Но тебе, конечно, недосуг…
– Неси, – сказал мальчишка.
Сосед пожал плечами и направился к хадзару. Мальчишка глядел в раскрытую дверь и злился от чужих взглядов. Он еще не привык. Ему нужно чуток времени. Совсем немного. И тогда он заставит привыкнуть даже их.
Он повертел в руках ружье, ощупал приклад и курок, потом кивнул соседу и пошел к себе в дом. Ружье он прислонил к холодному углу, даже не взглянув на него больше. Затем улегся на тощую постель и почти тут же заснул.
Проснулся он, когда стемнело. Впотьмах пошарил руками в золе очага, нащупал лучину и взялся за огниво. Добыв огонь, он запалил лучину и воткнул ее в золу. Потом откинул крышку с корзины и наскоро перекусил соленым сыром, лепешкой и куском холодного мяса. Он поднял ружье, загасил лучину и вышел из хадзара. Небо было звездное и глубокое. Луна томилась светом меж вершин.
Он зашагал по дороге к ныхасу, затем перешел на тропу и двинулся к кладбищу. Шел он тихо, мягко ступая босыми ногами и стараясь не думать о холоде. У самого погоста он остановился и надел арчита. Глаза освоились с темнотой, и он без труда отыскал могилы. Он отложил в сторонку ружье и нежно припал поочередно к каждому камню. Теперь ему было не страшно. Он слушал щекой и грудью прохладу камней, и ночь не мешала ему разговаривать с ними.
Спустя немного он присел на корточки, подпер скулу рукой, пытаясь не жмуриться и упрашивая себя быть мужчиной. Но рот уже расплывался по лицу, и ничего с ним поделать было нельзя. Мальчишка всхлипнул, напрягся, снова всхлипнул, но не совладал с подбородком и разрыдался. Слез было много, кулаки за ними не поспевали. Плач рвал его тело на части и топил в себе разбухший от влаги голос. Мальчишку трясло и метало по земле, а ночь будто сделалась меньше, слабей. Потом все прошло, и он отер рукавом взмокшее лицо. «Я больше не буду, – подумал он. – Да и не я это. Просто те дни из меня вылились. Стоило только вдоволь напиться, как они и полились. Это ничего. Это случайно. Теперь я буду ждать. Вся моя работа – ждать столько, сколько надобно».
Он глядел на камни и звезды, размышляя о том, что жизнь вот бродит меж ними, а как умрет – поделится и разбежится по звездам и камням. Ночью с ними можно разговаривать.
– У меня есть друг, – сказал он могилам. – Он тоже немой. Только не такой, как дядя. Тот со страху немой. И от страху толстый, ест и ест. И никто ему ничего не скажет, потому как ничего он и не разберет. Лишь глаза выпучит и прижмется. Как вас обвалом убило, так и онемел. Сам-то выжил, а страху не вынес. Да я видал его. Это когда вас откапывать стали, меня увели, а его-то я видал. Весь камнями заваленный, наружу одна голова торчит да руки вокруг бегают. Уже тогда язык отнялся. А руки до сих пор бегают, вот только ноги не слушаются… Нет, мой друг не такой… Я ему овцу задолжал. К лету на что-нибудь выменяю.
Он замолчал, ощупал порез на ладони. Тонкий бугорок, будто пучок волос приложили. Трогать его было приятно. Он прислушался, вгляделся во тьму, потянулся за ружьем и, не вставая, спугнул с холма змею прикладом. Потом зевнул и поднялся, чтобы малость взбодриться. «Я привыкну», – подумал он.
Он почти привык за шесть ночей. Сутки раскололись на две половины, из которых одна начиналась затемно, а другая наступала с рассветом. Возвращаясь ни с чем в потухший от безмолвия дом, он всякий раз находил у дверей кувшин и прикрытую крышкой миску с едой. Он отставлял их в сторону, покуда не опустела корзина, а потом уж брал с собой, не чувствуя ни стыда, ни благодарности. В первое утро он вновь отправился к соседу и сказал, что перепутал: восьмая часть. Восьмая, а не седьмая с каждого помола. Но взамен ему нужен карц да пара-другая циновок на зиму. Так что они снова в расчете. И теперь есть шуба и есть отличная постель. Очага он по-прежнему не разжигал и лишь настрогал лучин в лесу. Пришлось потратить полдня и долго карабкаться босиком по дальней горе, но он берег арчита, а за свои подошвы не беспокоился. Они были твердые и шершавые, все равно как сосновая кора, так что простуда его не взяла. В лесу он решил, что, когда немного высвободится, отловит себе беркута или белку. Сейчас было рано: мужчина разом два дела не делает. Он еще с первым не покончил. Потому, отоспавшись и переждав сумерки, брал он ружье и снова шел к погосту.



