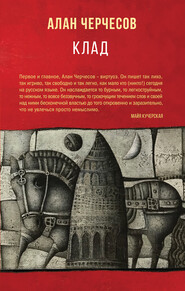
Полная версия:
Клад
Когда над мальцом оторжались, я затравку корчмарю подсовываю:
– Ишь, Трендафил, как ментовка твоя ухайдакала парня. Видно, градус в ней истинный, злющий. Так и тянет проверить нектарку придирчиво.
Шутковал я, конечно, но в подкладке у шутки надежду лелеял. Ага! Перетопчешься. Накося выкуси! Не поддался корчмарь на крючок, осудил мой порыв распеканием:
– Дед Запрян, не балуй. Выканючивать выпивку даже обшмыгу не красит, а с твоей стороны так и вовсе – одно неприличие. Человек ты, вестимо, не щедрый, но и не жадный, как будто, до полного свинства. Коли так, соответствуй сединам и не роняй в нищету состоятельность возраста. Хочешь выпить – монету гони. А жалеешь монету, водой наливайся из крана, я хоть сколько тебе нацежу.
Рассердил меня скряжник своим нареканием! Иль не знает, что мне организьмом не выжить, коль за каждую стопку ему возмещать из карманов, нуждой до кальсон одырявленных? Не моя в том вина, что бутылка ракии мозгу мою в плен не берет, а токмо щекочет изжогу под ложечкой.
Было время, забавой себя я морочил: как занесет в Дюстабан лизитёра, вызывал его меряться пьяными силами. Кто кого перепьет, тот другого деньгами и платит. Вот когда отводил Запрян душу! Чем здоровей попадался дуэльщик, тем мне удойней.
Раз приехал бугай из Бургаса: двухметровый детина. На себе еще пузо привез, воооот такое казанище! Твердое, в дульку пупком. Страшновато мне стало, Людмилчо, поражением сбыточным трепетно. Богатырский помет, да и только! Подавлял меня массами явственно и возбуждал мне в груди колебания. А Дафинка мне уксусом в рану и шпарит:
– Сбезобразит тебя он, Запрян. До могилы допьет – не заметит. Ну а ежели милостью Божьей не вымрешь, поперек всех увечностей выживешь, от корчмы будешь козликом драпать. Для себя я при всяком раскладе убытков не вижу. Оттого нагнетать возражений напрасно не пробую. Да и разве волшебница я, чтоб отвадить тебя от ракийных моро́к! Ведь тебе этот яд слаще статей моих и бодрее моих же побоев. Посему я в злорадном настрое предаюся любой непреложности. Иди и упейся, а там поглядим, что, да как, да куда. Вот такой мой тебе белый флаг.
Бередила геройство во мне ужалением. Подстрекала подначкой на подвиги ратные, а когда вспетушила приемлемо, проводила знамением крестным на схватку с верзилою…
Поначалу в корчме я чуток буксовал, отвлекался на каждую зрятину. У жлоба же со старта пошло как по маслу: хлещет, будто там не ракия, а воздух лесной. Трендафил наливает нам вровень – всегда до покромки стакашка, – сам же в украдку ворочает глазом: дескать, воюй до упора.
Слово за слово, рюмка за рюмкой, смешок за смешком – наконец и меня отпустило, отношением к жизни расслабило. После двенадцатой стопки во мне приоткрылось на щелку дыхание, вороватость из сердца куда-то потаяла, за пятнадцатой рюмкой снутрей каблучками по ребрам затуркало, а после двадцатой я ожил совсем и пошел с чужаком на была не была.
Угощались мы в смак до четвертой бутылки, а на пятом снаряде, гляжу, мой бургасец волдырит кадык, разбухает щеками, надсадно сопатится – так пыхтит, что как будто агонией стонет… Думаю, вот оно, близко победушка. Ан нет, не сдается упрямец, хоть сам уж на рюмку не может смотреть, отвращеньем на ощупь терзается. До седьмой продержался настырностью, но уже на середке бутылки сковырнулся и на пол порушился. На полдня и на ночь, почитай, обезглавился. Там, в корчме, и продрых под замком, только утром водой окатили, кое-как растолкали пинанием. На прощание выдали пива на путь восвоясный. Покидал нас убытчик печально-счастливым: во‐первых, все деньги на пойло спустил, но, с другой стороны, хорошо, что не умер…
Я к тому, что со мною в питье воевать – незавидная участь, умотная, великанам заезжим – и тем неподсильная. Сколько выиграл боев я, сейчас не отвечу. Может, сотню, а может, поболее. Но спроси хоть кого, подтвердят: едва ли не всех одолел я застольным нокаутом.
По таким временам Трендафил-стрекулятник Запряна повыше ценил! Оборот поднимал на моем удовольствии. Замечательно ладили бизнесом. Но потом разнеслась моя слава торнадой до самого Сливена. Затащила меня в щекотливость, не спросясь, в знаменитости вывела. Никто не желал уж тягаться со мной одаренностью, потому как сквалыжное племя болгары, на рисковые ставки прижимисты! Чужеземцы, слыхал я, другие. Тем подавай колориты, носийные[13] пляски, забавности разные, ну и платят они торовато, без доморощенных скупостей. Только откуда у нас иностранцам-то взяться, скажи? Где там мир, где страна, где София, где Пловдив, а где – Дюстабан, позабытая картой засклупина! А в засклупине той недоходною славой своей прозябает Запрян Божидаров… Так что таланты, Людмилчо, полезней зарыть под молчок и хранить в темноте до пришествия нужного случая. Вот на чем обчекрыжился я! Слишком выполз талантом наружу…
С той славно-бесславной поры серьезной удачи мне не было долго – лет тридцать. И корчмарь это все очевидел, оттого и подмогой сочувствовал. Иногда под шумок из заказов чужих подливал, как подельник подельнику бывшему. Отношения наши не портились. Потребляли мы их осторожно, разборчиво. Лишний раз я ему не моргал, да и он не базулил меня подношением, клиентуру свою не раздразнивал. Потому-то обида меня всколыхнула, когда Трендафилчо упреком прижал. Сижу и внушаю себе: ничего! Недолго копить барыши стервецу. Самое большее – день или два, покамест к болотам навозным сюда не нагрянет комиссия. Карантином запрут и подсобку замко́м опечатают. А потом дезинфекциям лавку подвергнут, замучают жмота проверками. Вот где будет мое Трендафилу возмездие!
А корчмарь точно чует:
– Ты, Запрян, не бушуй. Подкосили терпежность мою безысходности. Не люблю я, когда объяснения пакостям нету. И ведь знаю, что слеплены мы из неважного теста, а все равно удивляюсь: ну почто бы карать нас судьбе измывательством? Может, мы и уродцы, но как-то с ее стороны некультурно – бичевать насмехательством всех что ни попадя. Милосердие где? Тут ведь штука какая: коли нету для нас милосердия, бога тоже как будто бы нету. Доверяться ему я не так чтобы верую, но и как-то не хочется вовсе лишиться возможности, нет? Оттого, – говорит, – угнетаюсь нахмурными думами: не иначе, знамение вышло. По-другому, с чего б это нам изгваздало парцеллы[14]? Установишь причину, бутылкой проставлюсь, клянусь! Только ты не сумеешь, ведь нет?
Зацепило меня, старшина. Обернул я полсташку, натужился так, что аж клацнуло в ухе. Столько мыслей обычно блуждают в башке, ну а тут, разметель-колыбель, до одной улетучились… Не мозга, а миздрюшка какая-то! И тады я, Людмилчо, всплакнул. Осознал, что уж больше себе не сгожусь, и разнюнился. Чем мне дальше-то жить, коли мудрость моя невозвратно смекалку утратила? Замутился я глазом и признаюсь в непригодности:
– Не могу, Трендафил. Отреклось от меня озарение. Раньше шастало рядом, а нынче чего-то сугрюмилось.
Корчмарь изневесь закивал, заискрился под лампой бутылочным факелом и подливает мне в рюмку прохладным сиянием:
– За слезу за твою, за лучистость ее неподдельную. Сколько лет тебя знаю, в расстройстве таком не упомню твою мордофизию. Посему и себе в кои веки плесну-ка вторую. За твое, дед Запрян, неуклонное здравие!
Хлоп – и выпил, до дна опростал! В пересчете на мой искушенный манер получалось примерно, как если б я сам три бутылки слакал. Трендафил уж и так всю корчму в изумление поверг, наподдав по стопарику с батюшкой в отмечание их перемирия… Коли ты, старшина, подзабыл про крутерии наши и привкусы, освежу твою память на их бесподобности: бесхмельным влачить свои дни в Дюстабане исхитрялся почти что никто. Лишь корчмарь подавал нам двужильный пример закаленности истовой. Сим малахольством и самовредительством вызывал восхищение у баб, но и жгучую ярость у них расшевеливал:
– Как не срам тебе, дюжему борову, нам мужей до усрачки спивать, самому оставаясь в кристальной тверезости? Для кого только копишь зажиточность скучную? Ни жены, ни потомства, ни юбки подбочной. Может, конструкцией ты по обратной резьбе изработанный?
А корчмарь на них брезгует:
– Дуры вы. И от этой вот дурости ваших мужей я ракией спасаю. Оттого не женюсь, что на них насмотрелся. Отвратился на вас их тошнотным страданием. А не пью потому, что по пьяному делу загремлю я и сам в ваши сети безвылазно. Больно дурости в вас заразительны. В добавку оснастка коварная.
Выходит, погибельность их Трендафил признавал. Но чтоб самолично опробовать – сей невидальщины не было. По крайности, мне про кобельные шашни корчмаря неведомо. Никогда не сходились мы в девственном пункте его биографии. Я, конечно, за каторжный выбор его уважаю, однако себе под штаны ни за что б не примерил такое мучительство. Да и даже теперича!.. Напрасно, Людмилчо, гогочешь… По секрету тебе щепетильность открою: мужчинскую твердость свою Запрян Божидаров поныне донашивает, хоть, чего уж лукавить, не в прежних разящих количествах… Откуда такое упрямство? Должно́ полагать, я весомостью этой наследовал дядюшке Начо, отцовскому старшему брату… Ага! Так и знал я, что вспомнишь… Точно, с рождения глухой и немой… Пастью щербатый и кожей небрито-пупырист. К тому же с обглоданным правым мизинцем (порося поработало: по младенчеству выполз из люльки и в корыто ручонкой засунулся). А еще, как ворчал по-немому, так размашисто брызгал слюной и локтями лягался. Девяносто три года сменял, а болеть не набрякся старанием, да и умер шально́ – почитай, что от радости жизни: перепивом себя утомил и у речки под ивой задрых. Не заметил во сне, как по травке скользнул и пустился душою в подводное плавание. Отловили лягушкой раздутой в Катунице… Верно память свою ворошишь – рёву во двор набежало немерено. Три деревни гребтели навзрыд – вон сколько плакс дядька Начо попользовал! Смотришь, бывало, идет по селу молодец непонятного росту и наглости, самому лет пятнадцать, а выше папаши на три головы, смежно мамка его карапузно гузном телепается. Усмехнешься на эту картину и думаешь: никак, Атанасов побег обнаружился. Вон и челюсть в лопату, и плечи бревном, напирают на встречные гоноры…
Ох, и много таких болдырей по округе бродило, безотцовщин с отцами рогатыми! Те, кто с дядюшкой Начо знакомство не близко водили, при виде его немоты опрометно жалели его инвалидности. Видать, про себя вычисляли, что нету в нем проку для женских штукарств, потому как чего с него взять? Невдомек, что в поломке его разговорной как раз и таилась для баб многоценность: совратит на гульбу – никому про растлен не сболтает.
Случалось, милухи его ошибались неряшно и тем понуждали мужей к преткновенным расправам. На баталии с Начо отместники шли без горения: носить на макушке рога – неудобство громоздкое, но когда их еще на тебе и ломают – тут уж вовсе расстройство болючее. Перед схожденьем с забидчиком обрастали доступно дружками и, ракией подзужены, выбирали подсобы серьезные: этот вилы трясет, тот дубиной вращает, ну а третий тесак с топором за кушак заправляет. Пару раз не гнушались с собой прихватить и ружьишко. Только дядюшке Начо, кажись, на свое умирание было плевать – не с отчаянных внутренних чувств, а с убеждений мятежных, что к его недозрелой погибели нету в планах у неба готовых возможностей. Сколько я Атанасовы мыки ни слушал, ничего окромя богохульств из фурчаний его не выуживал. Бессловесный язык его страху не ведал. Гневность – да, ликованье – весьма, презренье и желчности – тоже, всёравношность – и та мелочишкой зевотной просыплется, а вот боязней с мурашками там и в помине не шлендало. Иной раз я в сомненьях душился: может, речь человечья и есть наша главная трусость? Немой и понятий таковских не знает. Оттого и живет налегке, поклоняясь первейшим потребам: вкусно кушать, похрапистей спать, мять по стогам достигаемых женщин и запивать любодейство горючими влагами. Для того и снабдил Господь Бог дядю Начо не речью, а силами буйными, чтоб племянник его на слова не клевал и доверил себя отприродным хотениям. Так что бремя свое я с мальства угадал. С тех времен и служу ему долгом бессрочным. Навидался я в детстве, как дядюшка Начо строптивцам отпоры чинил, и решил я с него перенять воспитательный лучший пример. Обучился кулачному промыслу и неробкости с женской породой, а уж после попойки освоил. Подспорьем была организьма могучесть. Та мне тож перепала от Начо, в обходы законного предка.
Батя был коренаст, но масштабами скромничал: метр с кепкой да пару вершков в толщину – вот и вся кубатура его. Чрез нее ревновал до бессонниц мамашу к брательнику, а Запрян Божидаров, который мой дед, балагурной издевкой его успокаивал:
– Ты, – говорит, – Божидар, не серчай. У тебя зато слух, что, опять же, немало. А коль слушать в себе подозренья, то и даже с лишко́м тягомотина. У природы резоны свои. Вспоминаешь Давалку, корову пятнистую нашу? Ну, так передний телок был тщедушка у ней. А вторым разрешилась – бугай. И обоих свахлял ей Барыга, бычок племенной, на покрытие стада бодряк неустанный. Вот и делай отсюда приемлемый вывод.
Батя делал, но старшего братца не жирно любовями потчевал. Ежели правду не врать, то до жаров ознобных завидовал. У дядьки от бабских подмигов каникул почти не бывало, Божидар же на это оскалом скрипел и чем дальше, тем мельче задетым характером портился. Ничего не попишешь, Людмилчо! Во всяких процессиях можно водительство преуступить, однако ж не в лакомстве блудней. Потому-то мой батя не вмиг на подмогу летел: занавеску в подковку согнет и следит, как братишка насильников лупит, впечатляя засранцев в чело кулаковиной, покась те дубасят его по железным бокам или лезвием тыкают в стеганку, токмо вот Атанасу с укусов таких лишь задор! Наблюдать Божидару за бранью из дома – тоска. Да еще вперемешку с надеждой: авось, изволтузят, до десен в грязи изгваздают, чесотку в штанах изведут сапожищами…
С тех надеж заимел предпочтенье отец приглашаться на драчку не раньше, чем навострятся налетчики хором хромать за плетень к удиранию. Нет-нет да и кинет лопату в заспинки бегущему – вроде как поучаствовал тоже… А дядюшка Начо на радостях ажно скулит. Увлажняется глазом и вдруг как завоет от счастья! Потом закатает папашу в объятья и сердцем в прижимку его постигает – по ответному стуканью хлипкой, вилявой сердечности. Известно, глухой человек осязаньем отзывчив. Это с дежурным умом выходило у Начо навыворот: в подневных вопросах бывал он нередко тетеря.
Помню, сверзился намертво с груши, но, поскольку невежа, то выжил. В такую лиловость побился, что от ража губу прокусил и с рычаньем медвежьим касательствам нашим противился. Кое-как мы с папаней до летней времянки его доворочали, там свалили бочком и пошли запрягать, чтоб в больницу везти. Возвращаемся с лаской в лачугу, дядек – ни в какую. Серп схватил и артачится, наплевательски тпрукает грубостью. Притулился к стене в умышленьях ловчее рукой воевать и к себе ни на шаг, телепень, не впускает.
– Вот натура ослиная! Это он из-за зуба. Помнишь, когда ему рожу в нажратое вымя раздуло? – наставляет отец и садится с цигаркой на корточки – развлекаться дразнением: как потянет дымок, так щекой и напухнет, а у Начо с его ареголий грудь кузнечно мехами клокочет. – Я ж его сам на спасенье в медпункте сгрузил. Уговорами пасть растопырили, а в ней уж такое кишмя накишело, что от выхлопов этих у доктора Пулева маска скукожилась. Побелел он белее халата и запросом ко мне домогается: нет ли с собою веревки прилежной, на безобразья выносливой? Притащил я, а тот мне с порога приказы глазами рисует (что глухого мишулит, уже и забыл): вяжи, мол, с подкраду к лечебному креслу и хватай крепче за́ уши. Да гляди, слабину не давай… А как зуб острогубцами дернул, запретил мне отвязывать прежде, чем мотоциклом на выезд сгазует. Чудом здоровье тогда улизнул: Атанас меня сразу сбодал, а потом полбольницы за ним проскакал, покамест то кресло со скользкой ступеньки не рухнуло. Так расквасился мордой, что брови до взлызин стесал. С той поры не дается врачебным заботам. Поди, сейчас думает глупостью сходной: коль тот раз ему вырвали клык, нынче ногу по яйца оттяпают. Сочинил для себя, обормот, уравнение!
Не ошибся папаша в диагнозах. Я уж думал, дядька́ потеряем: разбухнет нарывом, пожолкнет и, чего доброго, гаркнется. Ни на чуть не бывало! Отлежался бай Начо с неделю, а как на циновке валяться обрыднуло, на две палки вскарабкался, восемь дней отшкандыбил подпрыгом, на девятый воспрянул и ранение напрочь забыл. Обошелся без всяких микстур и таблеток. Материал человечий, что ему небеса на покрой отрядили, выделялся несносностью качества. Второго такого доднесь ты в подзорные трубы не сыщешь. Вот тебе и ага!..
Ни при чем, говоришь? Это как на меня посмотреть! Взять хотя б зуботычину: без отсылки на кровные узы с воспитательным дядюшкой Начо показанья мои захудалы в своих достоверностях… Да ты не одно повреждение закона увидь, а прозри сквозь него перст судьбы и сытожь: был он пальцем вот этим закручен в мою кулачину… Ей-богу, Людмилчо, сверстай протокольное мне оправдание. Всех делов-то – вписать невиновность, подмахнуть снизу званье, пришпандорить свое Баламазово имя да печатью вопрос закруглить! Не муруй меня заживо в клетке, чудак-человек!.. Да ну как же – нельзя? А для можно ты вот что: сомненья сожмурь и в придачу к наследствам драчливым подключай на защиту тверезость мою. Подровняй полицейскую совесть на то, чтоб доносы находчивым миром уладить. Кончай горлопанить террорами. Повторяю тебе до мозолей: самосильно все вышло. Кабы меня самого не дерябнули, в ихнюю свалку бы я не встревал…
Почему в пришлеца угодил, это ты лучше у лапы выпытывай… Так точно, в ответе! Да только какой там ответ с безответной ручищи? Ты вот сам-то приметил обман, где она из-под жопы моей ускользнула?.. Дак и я ведь о чем!.. Уследить невозможно за этой пронырой… Нет, наручником цапать погодь. Дозволь мне рассказ завершить, а там уж решайся на выборы: то ли кары ко мне применять с безразличием к ветхому возрасту, то ли тонкость участия дедушке выказать…
Слушаюсь, сути докладывать!
Ну и вот… Соблюдая, как есть, хренологию, завожу тебя в курсы событий, мимоходно сдирая покровы с моей ненарочной причастности.
Продолжаю тем местом, где прежде оставил себя с Трендафилом.
… Едва мы с корчмарем по рюмке зачислили, дверь сызнова настежь, и пролезает замызгом фигура Поносника Райчо. Глядим, примостился в углу и медяшки ногтем ковыряет, намусолить заказ собирается. Посчитает налево – не сходится. Перекинет направо – опять не срастается звонами. Супротивно клиенты безмолвием ерзают и терпением крайним все больше в гневливость смыкаются. С омерзения запахов сразу полезли к нам в голову образы.
– Ты про то же вниманьем смрачнел? – занимает меня Трендафил.
Я в рифму киваю:
– А то! – и добавляю ему исподзубно свое наблюдение: – Ежели смрады похожестью сравнивать, почерк зловоний как будто один. Токмо вот нестыковка в объемах. Буде представим и тысячу Райчо, с площадями им нашими в год не управиться, куда там за узкую ночь обдристать! Я чего опасаюсь? Без совсем колдовства и вмешательства темного, хоть зарежь, а людским напряжениям напортачить подобные хляби не сможется.
– А то! – повторяет меня Трендафил. – Невпотяг наши прорвы ничьим человеческим подвигам. Хотя почерк, конечно, один.
Сказал и опять наливает:
– За наши с тобою здоровья, Запрян! Тостую за то, чтоб поломок в башках избегали. И даже когда объяснения пакостям нету…
Бородой запрокинулся, хряпнул до дна, сел на стул и в себя, как в туман беспросветный, тоской заглубился. Заглянул я корчмарю в глаза, а по ним уж мутится дымок, приглашает потемки на сходбище. Только взялся курнуть я, как Гыдю Паунов приблудным движеньем отвлек. Прикандехал к нам слухом поближе, локтями причалился и распутность подмигивает:
– Ни хрена себе, третью прокидом хватил! Подстрекнуть еще пару принять, так и лыка не свяжет. Непривычный корчмарь к алкогольным нагрузкам. Коли в слякоть его развезет, подсобишь к Теменужке гостинцем сводить? Уж она полишает задрыгу невинности.
Веришь, я точно брызгом змеиным попачкался.
– А катись-ка ты, Гыдю, к лахудрам. У тебя их по дому три штуки болтаются.
Намекал на супругу и дочек. Коли Райчо нас духом сражает, то Пауново семя погибельно дослепу зрениям…
Как ни пыжился Гыдю, оскорбился ехидством нешуточно, но понеже сычугой своей жидковат, загрубеть не полез на рожоны. Побурчав, стек со стула, отполз восвояси. Едва я цигарку свою засмолил, как заместо него уж Поносник прихлынул и давай Трендафила натуживать:
– Пятака не хватает, – заныл. – А ведь был только что: решка к решке в ладони вот эту полтину выхоливал! Или в щель прошмыгнул да в подпол теснотой закатимшись? Я к тому, что невредно б его засчитать в платежи, ибо все же в корчме позасеялся. Оттого не хватает теперь пятака, что ведь им я уже поплатимшись уронами.
Сказал и учтиво соплю зашмыгнул, потом из-за пазух кубышку достал и толкает к хозяину.
Трендафил на лохмотья с укором поцокал и палец наставил в чумазую лбину:
– А поведай сперва, божий вестник, с какой лабуды нам село обосрали? И откедова вышли проделки работать пропащие силы? Убедишь – поощрю. Не добьешься – взашей прогоню и запретом на вход обложу, чтоб не портил удобства почтенным клиентам своим беспощадным присутствием.
Облизал Райчо жажду и распознал языком в ней погибель: либо так, либо нету его, потому что и нам в сторонах уже слышно, как от длительных засух хрустит в нем неровное сердце.
– Не томи ты его просквозь наших страданий, – заступается Груйчо Папазов, а сам аж слезится от му́ки вдыхания. – Поимей ты к народу сочувствие, а пятак я подкину придачей к позднейшим заказам. Так что нервы напрасно щипать не возись, Трендафил.
Не успел оголиться Папазов любезностью, как Поносник, с восторгов нежданных, подловил впопыхах озарение:
– А затем, – дребезжит, – говнецом вас врасплох запрудило, что друг дружке добра пожелать не в охотку желаете. Марафетами кичитесь, в белых мылах с ногами купаетесь, а вот в душах гонористых – полные сральники. Уважения в вас нет – ни к себе, ни к злосчастьям чужих человеков. Презираете всех, кто удачей вам вровень не вышел. Ну а кто превозмог, вы того ненавидеть горазды в отравные зависти. С чего ж распинать удивления, что до самых казеек в своем же говне увязаете? Как по мне, ведь иначе и быть не случилось бы. Вот такое мое вам, земели, жестокое мнение… Касаясь сюда же запроса про тех, что надысь вам навозный соро́м учредили, я его раскусить для себя не имею ни прав, ни накопленных наглостей, ибо нету во мне отродясь ясновидения. Особливо ж на черствое брюхо.
Тут он глоткой осекся, иссяк сумасбродной отвагой и подхалимство руками разводит:
– Коль я в чем словоблудством впросак лопухнулся, вы меня, дурака, извиняйте. А коли догадкой по нужным отгадкам хоть чирком задемши, зарок Трендафилов сквитайте совместно щедротами.
– Пусть и глупость сказал, а питье, в разумении моем, сторговал, – громыхнул поп Евтим и перстнями брезгливо тряхнул: дескать, налей уж и в угол обратно сгони. – Сообща заклинаем упертость твою, Трендафил: не марай медяками формальные принципы. Угости ты его да уважь наконец нас заслуженным климатом.
Внял совету корчмарь и плеснул. Райчо мигом коленки согнул, враскоряку присел, подхватил драгоценную ношу и шажочками мелкими в угол обжитый направился.
– Снизошла благодать, Боже-Господи! – ободрился Евтим и пощелкал приветственно пальцами: мол, бокал мне пополни, я веру в себе освежу.
Обслуживши его до закрайка, корчмарь воротился за стойку и сусолит хмельные морали:
– Существо он из всех божьих тварей, должно́, препротивное, а как речь произнес, будто разом над нами макушкой возвысился. Посему, – говорит, – заключаю, не так уж и врал нам Поносник. Между прочим, какое сегодня число?.. Так и знал! Хорошо, хоть не пятница.
– А что, подходящая дата для Судного дня? – любопытствую я у Евтима.
– Тьфу на вас, отщепенцев! – ругается поп на ухмылки. – Иль неведомо вам, что вершится Суд Высший на нас чрез небесную твердь, а не гадостью дольней восходит, нужниками повылезшей?
– Ну и что ж, в таком разе, оттоль к нам взошло? – наседает корчмарь на него в напроломы. – Кто дворы нам тогда обговнял? Скажешь, дьявол там жопу свою надрывал? Босозадо скакал вокруг церкви и крестом не смутился накупольным? Что-то как-то в повадках чертовских не сходится, нет?
Понадулся Евтим, горделиво губой запузырился, а как пораскинул резонами, взбрыкнул крутым пузом и уязвляет корчмаря презрением праведным:
– Вона как, Трендафил, отворяется. Мне и прежде пеняли, что ум в тебе искрой холодный, азартом скупой. Вижу, люди в броженьях своих клеветой не пятнались. Ракия тебя донага прояснила: вот глотнул ты ее, так и сквернами вдрызг протекла ледяная твоя голова.
Только хозяин ответить сготовился, чуем снаружи гуденье. Звук безгласный почти, неудобный, начинкой пустой. С ним заходит Флорин-говновоз, на полрожи фингалом лоснится, а посредь телогрейки свисает повертком рука, от запястка до локтя замотана. Вослед прибывают толпою зеваки – все слинявшие давеча Фытю, Василы, Страхилы, Спасьяны, Кеворки, Рахимы с Мюмюнами, сюда же и Шмулю-ветврач пригорюнился. Им хвосты подпирают три Чочо и шестеро братьев Блатечки. За теми толкутся Ивайло Чепилски, Закарий Станишев и Трындю, потом Филатей и Топалко Радмилов в корчму бледнотой заявляются, ну а самым последним концом приплетается к шайке Оторва – утешный приятель мой Тенчо. Гляжу, этот тоже в весьма обостренных расстройствах. Хочет мне втихаря подмигнуть, да не выдюжит: вместо выпуклых знаков конфузливо глупостью лыбится. Как кривляться устал, на скамью примостился и нежадным на время прикинулся. Остальная братва разбрелась кто куда, а когда табуреты собой позасеяли, тишиной зашуршали, в молчанку заказов своих дожидаются. Заодно перед нами фасоны ломают, будто тяжкие мудрости думают.



