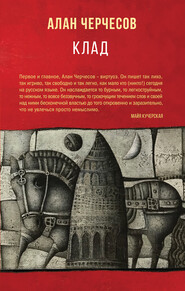
Полная версия:
Клад
Трендафил, как завидел нашествие, вмиг давай заселять три подноса под выгоды.
Ждем-пождем и дождались: первым бай Пешо Бакларов не выдержал.
– Отчего, – говорит, – изневесь ваши речи в песок пересохшие, нам более-менее ясно – чай, не дети, на постные рожи понятливы. А чего мы не знаем, так две пустяковины: кто из вас чернослив говновозу под взгляд насадил – это раз, да чейным покусом ему переранило руку?
Отвечать бедокуры ему не торопятся. Токмо Авксений Турушев споткнулся смешком и пошел на нем торкаться клекотом:
– К-к-к… – Потом растянул в ширину заикание: – Киш-киш-киш…
Груйчо слово дотумкал, дружка закругляет:
– Кишка! Ею, что ли, в хайло долбануло?
И уводит навскидку глаза на Григорова.
Обалделый морганием, тот подтверждает контузию:
– Как с цепи сорвалась. Сосала, сосала – не корчилась, потом заглотнула какой-то булдырь, зафырчала внутрях и задумалась. Я мотор приглушил, обождал, что машина срешает. Вижу, вроде опять поползло, затолкало к цистерне кавалками. Вибрация плотная, ровная (ворошится слегка колочением, а середкой – той даже не чавкает), стало быть, тянет задачу. Чтоб не мурыжиться капельной скоростью, я мягко на третью рычаг перевел. Объемы-то – вон, целина неоглядная… Раз, два, три, семь, двенадцать секунд – все путем, а едва досчитал до тринадцати, ни с того ни с сего ка-а-ак взовьется змеей!
Тут Закарий Станишев, который учитель, его поправляет:
– Не змеей, а совсем даже хоботом.
– Это я еще локтем укрылся, не то бы башку сковырнуло. Хорошо, что мужик у мотора стоял, разобрался питание вырубить. По-другому б погибель постигла. Да еще б тех двоих вон ко мне пристегнула в товарищи…
– Мужик – это я, – поясняет Рахим и довольно смущается. – А убило б Спасьяна и Гоце. Ну а так – никого не убило.
– Слава Господу нашему, Иисусу Христу! – восклицает Евтим, ублажая всю троицу крестным знамением. – Аллилуйя!
Гоце, Спасьян и Флорин – тем троим хоть бы хны, а Рахиму – тому обработка не больно понравилась. Отнырнул он от пальцев поповых, поискал черным глазом, где юг, где восток, отвернулся к стене, незаметно колени поджал и бормочет Аллаху акбары со стульчика.
Трендафил мне обиду бухтит:
– Ничего, что опять на тринадцать совпало? Или, скажешь, случайности?
– Сам теряюсь, – ему говорю. – Хорошо, что не пятница.
– Без жертв-то оно и не худо. Ну а где же от вас испарились начальнички? – донимает бай Пешо ораву экзаменом. – Куда оба-два мимо нас подевалися? Иль с испугу в хоромы свои позатырились?
– Никак нет, – рапортует Баграт Демирджян и прямится хребтом по армейской привычке. – Кмет Воденичев – тот с портфельчиком в город отправился. А Стоянчо Стоянов у них за шофера поехавший.
– Стало быть, протрезвелый уже?
– Никак нет, – отрицает Баграт, затвердевши по-смирному. – Перегары мускатным орехом заел, а шоферские зоркости крепит очками зеркальными. Ну и долгом служебным посильно солидится.
Евстатий Блатечки хлопки по столу раздает и шуткует:
– Долгом – не долгом, а страхи, поди, в нем конкретно повспучились. Если что вдруг с мотором, домчит на ресурсе на внутреннем.
Кое-кто реготнул – но скорее для виду, изнуряясь смешками неискренне. Большинство только рты скособочили. Вывожу посему наблюдение: настроения масс как в упадок свалились, так там и поникли фиасками. Один говновоз угомон не смекнет и от всякой ужимки вдогон возбуждается: то меленькой дрожью вструхнет, то хохотком ерепенится. Лихорадный такой, что и хмель уже утренний вышибло. Размахнулся его я отвлечь, в спину пальцем позвал и маню в разговор деловым обхождением:
– Что́, Флоринчо, решили с машиною? С Чочо Шипчановым, техником, консультации к пользам наладили? Какими доктринами порчу мотора лечить тяготеете?
А он лишь плечами пожал, тупицей в глаза мне уставился и сообщает свое удивление:
– Порчу? Машину лечить? Извиняюсь, об чем твоя речь? Или ты, дед Запрян, про кишку мне сейчас заблуждаешься?
– Про нее. Про мозги про твои – это лучше ты к Шмулю сворачивай.
Гоготнул говновоз да и вновь задрожал. А когда опростал свой стопарик взакидку, сомненье выказывает:
– Что с кишкой непорядок, в этом я не уверенный многими мыслями. И движок по себе, в общих взглядах на масло, исправный. А проблема, сдается, в излишках зарытая: конфитенция в них густоватая будет сцеплением. Кучность фекалий такая, что корежит резины и обручи, извращает в кишке все упругие полости. Оно только с виду говнистая каша. А по вязкости – точно смола. Очень сырье для работ несподручное. С точки зренья стандартов, претензию выскажу: уникальны отходы у вас в Дюстабане. И ядрены опасно составами. Видно, граждане ваши нутром жестковаты, комковатые общим характером.
– Это что же теперича нам, возгордиться артельно разливами? В чем твое, грамотей, предложение впрочное?
– А ни в чем, – закисает побитыми взорами. – Может, Пловдив окажет какое содействие? Или продайте кому удобрения. Итальянца в Катунице той же спытайте. Ловкача, что всю землю скупил под поляны клубничные. Авось на органику вашу позарится. Я б, к примеру, ее за бесплатно ему делегировал: глядишь, самовывозом вашу проблему почистит. Ну а больше сказать я кого-то не знаю. Если честно, меня про иное колотит. Как-никак, безголовья на чуть избежал.
Отвернулся и снова дрожать приспособился, а меня за спиной словно больше не водится. Поглядел я налево-направо, а там сплошь притворство жеманится: запивает мехлюдии да невнятно смешками куражится. Тошно воздух дышать посреди завирушного общества. Накопился я желчью на них, положился на руку щекой и вздремнуть притязаю, чтоб тоску пережмурить, ан нет! Тут-то, Людмилчо, оно нас и жахнуло! Пожелаешь преступный момент оцепить, то вот этот как раз и сажай. Окольцуй полицейскою лентой и глазами с него не зевай… Детелинчо Заимов, посыльник, – он и есть наш виновный зачинщик… Вот сейчас шевельнется, поднимет башку и начнет на нас зенки выпячивать, а потом ухмыльнется и кинет затравку:
– Странно, однако.
Мы нарочно не слышим: затесался меж нами писюк и спросонья привадами «странствует». Тады по карманам зашарит, шмякнет деньги на стойку, кружку полную примет, вздохнет и долдонит:
– Однако же странно.
– И с чего тебе странно, баклушник? – отзываюсь вполглаза небрежностью.
– А с того, – чешет ухо, – что никто из всех вас до корыстей своих не додумался… Хочешь, дедка Запрян, откровением сна поделюсь? Сам я по малости лет до деталек картину навряд ли скумекаю, зато ты у нас древний, зажиточный памятью – если что, подсобишь. Ну так как, говорить или нет?
– Хрен с тобой. Токмо память моя даже рта на тебя не разинет.
– Ты про стопку намеком ворчишь? Угощу, коль покажешь, где будем добычу выкапывать.
– Это чем же с тобой нам добычиться?
– Кладом!
– Каким таким кладом?
– Известно каким. Других в Дюстабане незнаемо.
– Вона как. Других у нас кладов незнаемо. Твой один на селе и запрятался.
– Будет мой, если станет твоим вполовину. Иначе – ничейный. И опять же ничейным утратится.
Тут меня как ожгло.
– Разметель-колыбель! Уж не клонишь ли ты…
Обрезает меня на полслове:
– Ты бы лучше в толпу не шипел. Ни к чему нам с тобою свидетели. – И шепотком добавляет: – Быть такого не может, чтоб оно все повыползло, а его бы в земле удержало незыблемо.
– Отчего же не может? Очень даже возможная разница. Где говно, а где золото! Дюже по весу штуковины разные. Не говоря уж о всех остальных благовониях.
Детелин мне на это упрямится:
– Нет, Запрян. Эдак балансы не сходятся.
– Что еще за балансы? Не молчи на меня, дурбалай!
– А что на весах на небесных качаются. Если в этой вот чашечке зло, то добро будет в той. Так оно мне приснилось сегодня открытием. Сами чашки из чистого света сработаны, всквозь прозрачные, кромкой лучистые, а по донышку – белые-белые. Что до зла – то коптилось на правой чернявым дымком. А добро – оно солнцем искрилось, но укромным таким, словно мелочь, игрушечным. Парят в пустоте обе чашки, не падают, равновесьем в линейку сложились и в воздухе плавают. Потом растворились, и – тьма. Не успел заскучать, а она уже снова промылась, весной зацвела, посередке селом обернулась и пейзажами по́д ноги выросла. И тогда я увидел сундук. Чую: ладони горят, значит, думаю, сам откопал. Ты со мною под боком, тенечком замазан, пыхтишь, оттого и без видимой физии, разве нижние снасти от ветра штанами болтаются. Отчего головой поисчез, размышляю? Вроде давеча палкой Запрян мне на нужное место указывал. Помню, дерево рядом шуршало, с него еще кошки полундры визжали… Волю снатужил, дознанием глубже зажмурился. Раскрутилось кино чуть назад, и вот мы с тобой позади тех себя, недовольны друг дружкой и ссоримся. В ботушах[15] стоим, позагрузли в дерьме голенищами, а вокруг уже сумерки ползают. Ты ругаешь меня и по мамке похабишься, а я глухотой на тебя защитился, мольбою внушаюсь: дотемна бы успеть, не успею – хана! Ты же мало кричишь – еще палкой шишкастой по ребрам меня поощряешь. Стервенеешь, зубами сверкаешь и очень похожий держаньем на сволочь. Я над ямой корплю, весь в потах и надрывах, про себя же предательством думаю: вот возьму и засуну лопату Запряну в оскалы… Слышу тут, будто лязгнуло что-то. Я еще не поднял, а ты уж ко мне подобрел, но пождать и глазеть ни за что не согласный терпением. Отходишь назад, притуляешься к дереву, сам на корточки сел и дух переводишь, а на сдачу со вдохов удушенно старостью кашляешь. Отхрипевшись насилу, приказ оглашаешь: «Доставай и бери, сколько хошь. А какое не хошь, спозаранку ко мне на крыльцо завози. Ну а сленишься ежели, я не в претензиях. Хоть бы всё под себя огребай – мне и это приемлемо». Прям не ты, дед Запрян, а безмездный святой! Я, конечно, посулам не верю и все же тебе благодарный, потому как не вижу с тобою оружия – давеча мне за стволом карабинка твоя примерещилась. Опасался, что выньму сундук, и в затылок коварством пристрелишь. Ну а ты – ничего. Оказался собой человек. Так что выбрал я клад и к тебе враскорячку понес. Как добрался до дерева, вижу: жижи его до корней отпустили. Ты на травке зеленой стоишь, будто в блески дождями отмытой, и в росу сапогами почищенный. А дождя-то над нами и не было… Чудеса, да и только! И так хорошо у обоих на сердце – смеяться охота. Вот стоим мы с тобой и смеемся. И пинаем легонько сундук, чтобы досыта звоном натешиться. Ты потом говоришь: бей замо́к. Я вопнул под железо лопату, приналег и запорку скрошил: проржавела вся в пыль, в порошок мне портки изукрасила. Едва крышку поддел, зазвездилась поклажа монетами. Повсюду уж ночь, а у нас из-под крышки – светло! Еще и прохлада оттуда исходит, обдувает нам свежестью радости. Одно слово – счастье!.. Прослезился ты нашей удачей и учишь: прикрой ты покуда его, а утром срешаем, на что вдохновляться богатствами: сколько денег победой пропить, сколько выкроить сумм, чтоб по ми́ру графьями проездить, а какой капиталец обратно зарыть – на несрочные разные нужды. До того мне идея твоя приглянулась, что в охапку тебя я обнял, стал навеки любить и поклялся в отчаянной дружбе… На этом мой сон и свернулся, чтоб с пробуды к тебе под матерый совет потаенность свою обнажить. Ну, что скажешь, Запрян, на мое озарение?
Взбудоражил меня Детелин. Раздраконил во мне искушения. Посидел я, подумал, душой покряхтел и колеблюсь в молчании спорами: может, врет и намерен крутить надо мной номера, а возможно, не чушь излагает и на помощь мою понадеялся. Коли врет, лучше вслух обсмеять. А не врет – так на что он мне сдался теперича? Нешто сам я копать не способный? Вся загвоздка тут – памятью вспомнить, а уж дальше лопатой ее проверять – никакой и не фокус. Только как вспоминать мне про то, что я сам ни единого раза не помнил? И не то чтоб я снам поддавался значением, но и мне через них на себя прозревать доводилось.
Снилось мне как-то раз, что в снегу я в дырявых носках и издохшую гайду[16] в руках тереблю. Хочу заиграть, а она безголосая – и под самым духа́лом[17] надуться не справится. Дикий сон, воплощением к жизни несбыточный. А поди ж ты! И дня не прошло, как украли овцу из отары. Все овечки домой воротились, а цигайки Запряновой нету! И по углям уже не понять, в чьем костре она мясами жарилась. До сих пор не разведал, на ком ее шерсти теплом расточаются… Вот тебе и носки с бурдюком!
А еще вышел сон, будто зубы посыпались. Ты, Людмилчо, подобных кошмаров в себе не подсматривал? Значит, опять повезло, потому как еще молодой, окружением дряхлым не стиснутый. Зубопад – вещь в предчувствиях старцев нередкая. Бабы судачат, к болезням родных или хуже того – к предстоящим погибелям. У меня, например, так и вы́снилось: в понедельник причудились зубы во рту, словно зерна с початка покрошены, а в субботу уже не осталось на свете приютов для зазнобы моей генеральной, Дафинки.
Я к тому, что дело ведь мутное – сны. В них умный обычно дурак дураком, а дурак – тот, напротив, умнеть подстрекается, а проснется – и снова чурбан. Прошмыгнет сквозь него предвещательный сон – по себе лишь обманки оставит. Все равно что капканы для зверя дремучего. Вот куда, подмечай, заблудили меня рассуждения! Ну а там уж возник исподлобья вопрос: Детелинчо – он умный? Или больше осёл? Был бы умный, в минуту б допер, что сон его толькошный – вздор, околесица. Тот, кто помнит, где нужно богатство подкапывать, не томится от жажды в корчме, а лопатой безлюдно работает. Стало быть, парень Заимов – дундук. И тогда его сон – для меня. Рассказался намеками и отныне ходы от меня караулит. Закавыка одна нам дорогу препонит – непробудная память моя…
Та́к вот план в голове и сложился: коль чего не хватает, займи втихаря у другого. Оттого предпочел, старшина, я огласку наподличать.
– Слышь, Трендафил, что ментовка твоя с необвыкшей мозгой вытворяет? – Говорю и противной гримаскою лыблюсь: дескать, весело мне от наивности дурня патлатого. – Пока дрых, угораздило парня в навозах порыться. Талдычит, что сном на сундук напоролся, ну а в том золотишко схоронено. Угадаешь, сокровище чье, или я подтолкну?
– Погоди, – остерег. – Без подсказок пойму. Уж не Вылко ль Разбойника роскоши?
– Вылко. Кого же еще.
Ох, и ошпарил меня Детелинчо глазищами! Так взглянул, точно зреньем всего оплевал. Ну а мне начхать: разложил табачок и цигарку кручу́, остаюсь незаметный к щенку равнодушием.
– Губа-то у парня не дура, – одобряет ехидством Евтим. – Да токмо такой ты разведчик у нас кучу лет не случайно-единственный. Сколько помню, на этот сундук молодежь докрасна раскаляется. Чем хребтину на поле ломать, воспаляют в грудях непотребные алчности, развращая мечтами незрелыми тощие совести. А неймется копнуть – так оно радибогое дело! Хоть сейчас ради бога лопату бери да копай. Коль с лужайки церковной стартуешь, там же клад и обрящешь – да не злато, убийством кровавое, а красивую душу свою. Сиречь через грязь от соблазнов бредовых очистишься.
Тут Додю Величков встревает:
– Ежели вам похвальбой не брехать, лично я бы отдал предпочтение Вылкову кладу. Опостыло ходить голодранцем, пускай и с душою красивой. Ни сроду проступком ее не пятнал, ни разнузданным помыслом, а награды за то по сей день не пощупал бакшишами. Только раз у корчмы чей-то лев[18] подобрал. Кто-то свой же, из вас, и повыронил спьяну в писючем заулке. Так, Евтим, не поверишь, я тот лев года три все в кармане таскал, а потратить не смел – ущемлялся стеснением. Порывался средь вас объявить, да ведь прежде исход представлял: утерял-то монету один, а восполнить пропажу навалятся восемь. Мордобитьем еще в скопидомствах своих оскандалятся… Невзлюбил я находку, короче. Вроде мелочь, а нудная. Хорошо, той деньге примененье нашел, когда в город арбузы возил: сунул в кепку кандыбе костыльному. Удружил покалечному нищему левом. Заодно и красивой душе удружил. Только б нынче я выбрал сундук. И душа бы запела на радостях! Потому как и самой красивой душе дефицитна красивая жизнь.
– Ну а то, что на кладе том кровь запеклась? – не отстанет от Додю Евтим воспитанием. – Это ка́к для души, без зазорностей?
– А того я не думаю. Вряд ли. Не моя же вина в тех убийствах подкладкой зашитая! Ты, к примеру, когда проповедуешь речи амвонные, всех подрядно прощать вразумляешь. Не судите, мол, злобами строгими… Ну так здесь та же хрень! Золотишко само нипричемное. Кто его только до нас не мусолил и какие на нем окаянства, нам про то и крупицей неведомо. Ты вон с грешников сам подаяния стяжаешь – родословной не больно гнушаешься. А кто хуже сгрешил, тот богаче и церковь осыплет заслугами. Ну и пусть его платит растленную мзду! Мне-то зависть оно не сверлит. Лишь бы храму на светлые пользы сгодились его подарения.
Вижу, Додю трепней с панталыку народ перебил, а задача моя в болтовнях не решается.
– А копал кто из вас, мужики, Вылков клад? Не припомню я что-то со всем напряжением.
– Я, бывало, по юности рылся, – признается Цветан Спиридонов. – С Топалко на пару возились. Салажатами были, годков по двенадцать.
– Ну а где по селу ковыряли? Как на пробу места улучали?
– Наудачу да спицами. Тыкнем там, тыкнем тут. Дождь пройдет, мы – в галоши и знай себе слякоти тыкаем.
А Топалко его развивает:
– Еще на обнюх вербовали его Голошейку. Сунет Цветко под нос ей монету, в обхватку зажмет и удушеством мучает. Не дает отвернуть на спасение морду, покуда несчастная псина сирену протестом не взноет. Цветко на это доволится: дескать, прониклась, сучара, к запахам денежным тонким чутьем подготовлена. На повод на длинный подвяжем и хвостами за нею мотаемся. Где привянет, мы спицу туда и уколем. С лисапеда отцовского выдрали, на огне раскалили накрайник, кирпичом подточили – вот тебе и орудие. По мокрым погодам легко пролезала – словно в мяклое масло иголка. А как неподатливость встретит, занозим участок проверками. Если гнется со всех подходящих сторон, чертим площадь, затем по царапкам копаем периметры. Года два промышляли, потом надоело. В основном валуны извлекали, но попадались и утвари: то кастрюлька, то чайник подгнивший, то ложка, то блюдце. Изобильна землица у нас на железки и шуточки. Уважает попить и металлы покушать.
– Это да, – подключается Нешко Блатечки. – Земля – она баба живая. Оттого-то и нам от себя жить дает.
Вот ведь пентюхи, думаю. Никакой от них взятки не выжать для моей порассеянной памяти! А время-то мимо идет, всухомятку со стенки копытцами цокает: на часах уже полдень почти. Скоро власти с расчисткой прибудут, и займутся в селе ералаши. Неизвестно, какими манерами удосужатся клад наш высасывать… Что он есть, этот клад, я еще насовсем не поверил, но уже и не верить конфузился. Шут его разберет, от каких почему заглотнул дед Запрян золотой свой крючок и срываться с него, хоть дери ему пасть, не торопится.
– Стало быть, – говорю, – поп Евтим сгорячился в оценках заразности. Токмо два человечка, и те простофильного возраста, – ну а больше никто фантазерство свое не пускал в землеройство напрасное?
– Находились, чего уж, – гундит Филатей. – А возможно, поныне не вымерли. Видел давеча я пацанву у засевок с люцерной. Ошивались с каким-то прибором. На приемник похоже, с антенной, только усом не кверху – к низам. Чьих ребятки фамилий, не шибко я их разглядел, а про клад удивлением сразу задумался. Мы, бывалоча, тоже с транзистором мыкались. Даже карту в тетрадке по клеткам составили. Арномальностей карта такая – с отклоненьем трескучих частот. Где радио хрюкнет, там точку малюем. Идиёты, конечно, зато не ленились башками мозолиться. Я, Страхил и Паисий – втроем. Иногда приплетался подглядом Кеворк. Под ногами крутился мальком, так мы специальным почетом его нагружали: дозволяли копаться в сухменях вне очереди.
Посмеялись чуток, по загривкам отхлопались, подстегнули увядшие дружбы винишком и сызнова в суетность выпали: слышу я, про навозы скучают, а про роскоши наши – ни слова. Гляжу, продвижения в памяти нету: как была на подсказ скупердяйка, так меня и мурыжит голодными па́йками.
– А с чего б, – заезжаю с других поворотов, – за Вылко судьбину не вспомнить? Авось подсобим Детелинчо, куда ему сон свой назад схоронить.
– Это можно, – кивает корчмарь. – И откедова нам мемуары разматывать?
Тут Флорин-говновоз встрепенулся и просит:
– Нелишне б с евошных разбойных истоков. Кто таков этот Вылко, я с ним не знакомый ни слухом, ни именем. И об чем его клад, мне оно все туманом окутано.
– Я бы тоже с началов заслушал, – сообщает Василко Василев. – Освежил бы в уме приключенья старинные. А послушать там есть что, ага!
– В таком разе, – настрой дирижирую, – приступаем совместной программой к рождению.
– И чего там рожать? – пожимает плечами корчмарь. – Ничего интересного. Вылко – старший, за ним через год наверсталась и Бенка. Произвел их отец да и хворью преставился. Не имею в познаньях подробностей, но и на хрен они нам не надобны – потому как обычные детские сироты. А над ними – обычная бедность да мать. Разве что посредь здешних семейств в чужеземцах втроем оказались.
– Он-то тоже неместный – папаша, – заполняет пробелы Евтим. – Понаехал откуда-то с севера. Вкруг Пловдива страдником мыкался, поколе сюда не добрел с молодухой. Дюстабан пришлецу показался к обжитию. На околице дальней, в неряшных соседствах цыганских, приобрел по дешевке хибарку, пять годков отбатрачил присталец, меж делом детишек родил, потом по весне потроха застудил и от потного жара спалил все запазухи. Так и о́тдал он Богу потемную душу в своей завалюхе. Про события те у нас в книге церковной записано: оба рождения по датам, а страничку еще отлистнешь – их папаши скончание.
– Быстротечные вышли ему преспективы, что по тем временам и не диво, – прибавляется мнением Ицо. – У меня второй дед, ну который по матери, тоже, бездольник, почил рановато. А у бабки на вдовьих руках семь детей. Матушке Вылко на пятеро было полегче.
– Легче ей было за сгинувшим мужем издохнуть, – супротивится Стамен Киряков. – Вот что было бедняжке полегче, потому как совсем без родни! А у вас, у Манолевых, шесть домищ по селу от когда понатыкано. Да к хоромам тем девять наделов захапали. Наплодились на нашу беду, куркули…
Поп Евтим, как учуял в пространствах паленое, враз укором кулачным пресек препирательства:
– Эй, поклепщики, оба, собачиться кыш! Не то самолично битьем разобижу. Придержите раздоры поне́ до суда, а в собраньях застольных блюдите сквозь зубы корректности.
Пенял им за то, что двенадцатый год друг на дружку доносы строчат, потому как межой не столкуются – там колючки на метр придвинут, тут на пару шажков оттеснят. Так и пляшет под спорные дудки шатучая изгородь.
Я от них покосился на стрелки, а те уж в одну подровняться пристроились. Обождавши, покамест двенадцать ударов скукуются, латаю наспешно проруху в звучаниях:
– Может, к детству с рожденья свернем? Каким рос, чем таким-рассяким поотметился?
– Сколько знаю от бабки, ничем, – отвечает Закарий Станишев. – Из хорошего – точно. Да и плохого тогда с гулькин нос набиралось. Мальчишкой его на селе ни на вздрог не боялись: росточком не вышел, сутул, кривогуб да худющ. Жердь в заборе – и та бы от ветра прикрыла. Завсегда незаметный и тихий, как тень, а поближе к темну так и вовсе для мира вжимался в невидимость.
– Не ходил, а как будто подкрадкой ступал, даже если шагал не таясь, – подтверждает Станишеву бабку Оторва. – Мне про эти курьезы батяня стращал в нахлобучку. Мол, еще раз с уроков в рыбалки слиняешь, ирод Вылко к тебе подкрадется, по темечку тюкнет и спровадит на дно – в утопление липовой жизни.
Закарий очками сверкает, в подкрепу ему возбуждается:
– Тут про безродство сирот поминали, а я бы вперед инородность в его предпосылки сфиксировал.
– Это как? – бескуражится Додю. – Давай пролюстрируй.
– Есть чудна́я порода людей, – размельчает мыслишку учитель, – у которых талант вырастать за спиной и дышать человеку в затылок. Про таких упырей и в романах читал, и вращался, когда в институте… Вурдалачное, склизкое племя! И народ эту муторность в Вылко наитьем прочувствовал. Волчье имя опять же погоды над ним понасупило.
Тенчо, крякнув, ему подпевает:
– Был замашками Вылко на беса похожий. «Чтоб тебя гром затоптал! С невзначая в печенки я сердце сронял. Убирайся, нечистая сила!» – вот такими примерно гоненьями его на селе и чихвостили. Невдомек людям было, что близок тот день, когда подтишочник подымется в изверга.
– Это да! – нагнетается Нешко волнением: жестяночкой дзенькнул, слизнул валидол, палец вздернул наверх и дырявит табачные воздухи. – Ни отнять, ни убавить. Подтишочник и был. А потом рашпояшалщя в ижверги.
– Но уже с малолетства заквасом прокисший ходил и страстишками гнусными порченный, – сугубит бай Пешо хулу. – Му́ки любил в существах смаковать: то щенка головней припечет, то бездомную кошку повесит. Где скотину кто режет, там Вылко пособник иль зритель. В душегубскую шкуру годами влезал, примерял на себя постепенным вдвижением.



