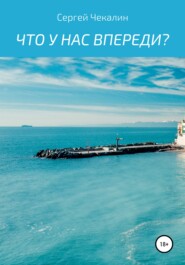 Полная версия
Полная версияЧто у нас впереди?
Фотография (1966 года) из Житомира моего друга детства Саши, с которым мы в своё время в своём детстве на льдине покатались. Его родители – наши сватьи. Поженились его сводный по отцу брат, Николай, и моя тётя, сестра отца. Живут они сейчас в Кишинёве, другом уже государстве, с Володей, сыном, с его семьёй. А второй их сын,Юра, живёт в Севастополе. Сначала они, получается, жили в Украине, но потом Крым стал российским, и они автоматически перестали быть «иностранцами». Саша оказался после всяких переездов недалеко от Москвы, в Раменском районе. В нашей детской родной деревне родители Саши жили в половине дома, а вторую половину занимала семья его дяди, брата его отца. Их дочка была подругой моей второй тёти, тоже сестры отца. Вместе с этой семьёй проживала тётя Клава, которая в семье дедушкиного брата Михаила была приёмным ребёнком. В 1921 году Михаил погиб в качестве заложника во время тамбовского бунта. Тухачевский усмирял тогда этот бунт. Забирали заложниками в деревне мужиков и объявляли, что если остальные не скажут, где бандиты, то заложники будут расстреляны. Конечно, никто и не говорил, потому что чаще всего не знали ни о каких бандитах, где они скрываются, тем более, в степной зоне. Ну и расстреливали всех, а потом новых брали и расстреливали, а в лесах убежавших от расправы и газом ядовитым травили. А с родителями Саши, в его семье, жила тётя его отца, бабка Прасковья. Это она сказала после объявления в хрущёвской Программе КПСС – «Партия (коммунистическая – С.Ч.) торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»:
– И-и-их! Ей-богу, правда. Спать ляжем, а проснёмси, а мы уж и в коммунизьми».
Но не пришлось проснуться в этом «комунизьми». Заснуть не дали. Так и возвратились снова в капитализм через развитой социализм…
А вот цветная группа на фундаменте будущего крыльца нашего дачного домика в Домодедовском районе. Лето 1996 года. С гитарой – сын Коля, дочка Вера с мужем, тоже Колей, я с краю, на солнце прищурился, выше всех – жена Марина, а слева от Веры – Оля, сестра Марины. Фотограф – муж Олин, Серёжа. Дом этот мы начали строить в 1993 году, хотя участок получили в 90-м. Материал для постройки приобрели тоже в 90-м, и он ждал своего часа за нашим домиком в посёлке, где жили мои родители. Не начинали строительство из-за неизвестности – оставят за нами эти участки, не оставят. Директор совхоза был против. Но, в конце концов, взялись все строиться, несмотря на… С постройкой дома договорились с поселковскими ребятами, сравнительно дёшево: две тысячи рублей в день (две тысячи в те годы были каждый год разные по стоимости), утром – пачка чая, а вечером – по сто пятьдесят водки, ну и с какой-то немудрёной едой. Строители они хорошие были, несмотря на их нестандартные условия оплаты. В конце концов, условия эти привели к тому, что восьмого августа мы своей семьёй сами стали строить дом. Сроки договорные прошли, а тут и вовсе катастрофа – умер один из строителей, не выдержал таких же условий на какой-то другой стройке. Фундамент пришлось ставить без цемента, поставили с небольшим заглублением в землю с подсыпкой песка. К середине сентября уже навесили первую дверь, заколотили оконные проёмы. Во время строительства жили в палатке, но Марина с Верой, а заодно и Колей, работали в пионерском лагере, неподалёку от наших участков. В палатке жили и на следующий год, но палатка стояла уже внутри дома. Первое, что начали делать на следующий год – стелить полы. Самый первый кусочек настелили с юго-восточного угла, из старых берёзовых досок. Здесь же и отметили это знаменательное событие игрой в преферанс – я с Верой и Колей. Знаменательное не только тем, что в этом хаосе строительства появился кусочек чистого места, который называется полом, но и тем, как достался этот кусочек людям, практически впервые взявшим в руки молоток и уж точно впервые занявшимся строительством. Да ещё и тем, что стелили пол старыми берёзовыми досками. А что это значит, знают только те, кому приходилось забивать гвозди в старую берёзу, или поправить пропеллер доски, или утянуть клиньями край доски, чтобы хоть немножко убрать щель. Вот так и строим до сих пор. Но время немного изменилось, появились любые стройматериалы, были бы деньги. Нам с Мариной всегда хотелось построить для себя бревенчатый дом. Но вот попали в такое время, что хоть какой-нибудь. Потом мы уж покупали и новый материал, и электроприборы, стало полегче. Но мы всегда вспоминаем первое время строительства, когда сами своими руками собирали дом только из всего старого, разгибали старые гвозди от разобранного старого дома, вручную сверлили и пилили детали для лестницы, окончательную конструкцию которой придумал сын, Коля, лучше и не надо!..
А это – первые Верины (дочки) шаги. Причём, первый свой шаг она сделала по траве-мураве, летом 1977 года. Конечно, её привлекла эта собака, такая большая живая кукла. Бабушка Вера сторожит, как бы чего не вышло, но на всякий случай, которого, вообще говоря, не могло быть. Собака эта жила при нашем многоквартирном доме, больше – у входа в наш отсек из двух квартир. И была она ничья. Но дом охраняла исправно. При этом дети делали с ней, что вздумается: катались верхом, таскали за хвост и гриву. Никогда даже голоса не подала, глаза только прижмуривала, а то и убежит от расшалившихся, если уж совсем доймут. В своём доме знала всех поимённо, по запахам, конечно, и от кого что ждать. И на местности у неё своя территория была, на которую другая собака – не ступи. От этого и погибла наша охранница, вернее – охранник. Как-то по весне нарушила его границу свора собак. Бой для нашей оказался последним. Вот к этой собаке и сделала свои первые шаги Вера, в девятимесячном возрасте…
Дальше подряд две фотографии «пра плюс пра» – прабабушки с правнучками на руках. На одной – бабушка Вера с тёзкой Верой, а на другой – бабушка Тоня с той же Верой. Обе фотографии примерно одного времени. За такой давностью плюс-минус один год не считается. Бабушке Тоне на фото немного за семьдесят, она с 1906 года, а бабушке Вере (1896 года рождения) столько же немного, но за восемьдесят. Семья бабушки Тони, приехала в Москву из деревни под Тулой, из Синиченок (помните фильм «Трактир на Пятницкой», в нём тоже из Синиченок в Москву приехала девушка, ставшая невестой Пашки-Аменрики). Отец бабушки Тони работал в Москве на железной дороге и один содержал всю семью. Помимо этого в Москве у них и хозяйство небольшое было, которым они тоже жили. Было это давно, бабушка Тоня ещё девчонкой была, да и сестра её, Александра, – тоже. Так в Москве потихоньку и обосновались, хоть и трудно было, особенно в послереволюционные годы. А в деревне, как известно, было ещё труднее. И в то давнее время было не сладко, поэтому и переехали сюда. И сестра бабушки Тони, и бабушка, вышли потом замуж, детей родили и воспитали, по двое каждая. У бабушки Тони родная дочь была, да падчерица, дочка её мужа. И уж в каких условиях! Когда арестовали бабушкиного мужа, так ей на работу устроиться было нельзя, не брали жену «врага народа», ещё не осуждённого, а уже «врага». Потом удалось устроиться на дровяной склад, это помогло продержаться до выхода мужа через год следствия. У сестры бабушки Тони, Александры, двое детей было, Нина и Юрий. Юрий на несколько месяцев помоложе моего отца, тоже с 22-го года. И тоже воевал, всю войну лётчиком был, «сталинским соколом», на самом деле – хорошим лётчиком. Когда-нибудь увидите старую хронику про юбилей товарища Сталина, в ней часто показывают и такой фрагмент: по небу летят самолёты словами «СЛАВА СТАЛИНУ». Так вот, в перемычке буквы «А» в слове «Сталин» – самолёт с нашим пилотом, дядей Юрой. После войны Юрий поступил в МИМО, работал за границей в посольстве. В 61-м или 62-м годах, наш первый космонавт, Юрий Гагарин, объезжал весь мир, все страны. И ту страну посетил, где в это время был дядя Юра. Жена дяди Юры, говорила: «Ну, встретились там два Юры, разнять не могли». Понятно, почему не могли разнять – оба лётчики, родные души. И ещё такой случай, не знаю, насколько он соответствует действительности. Каждый год на 7 ноября (надо напомнить, что это был один из двунадесятых советских праздников – День Великой Октябрьской социалистической революции) у родителей Марины, собирались гости. И вот в каком-то разговоре один из гостей, стал рассказывать, что во время войны их часть неожиданно была атакована своими самолётами. Бомбили их часть. И назвал, когда это случилось. А тут Юрий говорит, что помню, мол, бомбили мы по ошибке своих примерно в это время. Но скоро отбой дали. Ну что же, то, что бомбили своих, такое не только могло быть, но и бывало. Меньшая-то вероятность в том, что за столом встретились два «своих противника»…
А здесь два рыбака в лодке, Егор и Коля, братья двоюродные. Место это недалеко от нашей дачи в Домодедовском районе, в пятнадцати километрах от нас. Контора там есть, которая охраняет водоём и выдаёт путёвки на ловлю рыбы удочками, можно и с лодкой. Раненько утром я отвёз ребят на зорьку. Как потом оказалось, как отвёз, так и привёз. И в магазине рыбы не было. Егор – мой крестник. Ему лет пять или четыре было. Жили мы на даче у родителей Марины. Как-то раз летом Марина организовала нас поехать на озеро искупаться. Собрались – кто в чём. Что-то делали на даче, так я в рабочей одежде и оказался у озера. А рядышком с озером церковь действующая. Оказалось, что всё продумано было заранее. Я стал крёстным, да ещё и выговор получил от попа, что в такой торжественный момент в церковь явился в таком затрапезном виде, в рабочей одежде. А крёстной стала дочка Вера. Так что в лодке тут сидят не только двоюродные, но и крёстные братья, а сестра двоюродная Егору и мамой стала, крёстной. Я-то не любитель рыбачить, но приходилось червей насаживать для дочки, а потом и для её дочки, Катерины. Вот тут надо бы и в сторону отбежать. Катериной её назвал её отец, когда свидетельство о рождении «выправлял». Так и записано в нём, а теперь и в паспорте, Катерина. Без объяснений со стороны записавшего. Это почти то же самое, как и в нашей семье. Родилась моя сестра. Все рады очень были, а то подряд два мальчишки, так вот теперь – девчонка. Все как-то и решили назвать её Таней. Мы уже и привыкли – Таня, Таня. Поехал отец «выправлять» свидетельство о рождении, приезжает, а в свидетельстве – Валя, Валентина. Все так и ошалели, и без объяснений с его стороны и тогда, и в последующем. Так вот с Катериной я рыбачил на Северке. Штук пять-шесть поймали, больше – она. И её червяков я насаживал. Скука, да и только. Так нет, приезжаем на дачу, Марина рыбку эту чистит, а Катя стоит рядом и говорит: «Вот но, счастье-то». Конечно, это замечательно. Но я такого не сказал бы. Но в следующий раз обязательно пойду копать червей и буду на крючки их насаживать…
Деревья раздвинулись и пропустили между собой двух белых лебедят. Мы в это время домик-дачку снимали в Победе по Киевской дороге, под Апрелевкой. Домик-вагончик. Помню названия остановок интересные: Крёкшино, Кокошконо, Лесной городок. Соседкой по даче была тётенька, которая, как оказалось, работала кассиром на ипподроме, в Москве на Беговой. Словом, бега продолжались почти каждый вечер у неё на даче. Компании шумные, пьяные – до утра. И каждый раз по нескольку раз заводилась у них песня, в которой есть такие слова:
«Мы с тобой чужие люди …
… ворошить не будем
Угли старого костра…»
Так это всё надоело, даже ребятам. Они уж последние слова переиначили: «…ворошить не будем кудри старого козла …». Там у них в компании хватало и таких…
И эти же деревья пропустили ещё одну тамошнюю жительницу – Марину, почти тех же лет, что и скворцов на верхних фотографиях…
Одна из редких фотографий из детства. Момент фотографирования не помню, помню этот самолётик, что в руках у Вали (немного бывшей Таней), сестры. Получается, что ей года два-три, а мне – девять-десять. Валя на скамеечке стоит, ждём птичку из фотоаппарата. Самолётик этот магазинный, потому и запомнился. Нам с братом игрушки отец делал. Самолёт и машину помню деревянные, на подшипниках больших вместо колёс. На этих игрушках какое-то время мы даже катались, друг друга возили. Но мы выросли быстрее, чем эта техника сломалась. За нами заросли вишни, надо сказать, очень плодовитой и вкусной. Шубинка, кажется. А за вишней чуть подальше – дом наш. Но его совсем не видно, росточком маловат. Вишнёвые листочки в некоторых наших играх были деньгами. Тогда ещё один листочек приравнивался к одной дореформенной копеечке. Словом, за пятьдесят листочков можно было посмотреть в клубе кино. А дом этот построен был в 1950 году, мне ещё года не было в это время. А до того здесь стоял другой дом. Его в 1928 году перевезли из села Львово, что от нас в 25-ти километрах, семья моего прадедушки Василия. Ну, не вся семья, а только он с дочкой Василисой и семьёй моего дедушки, тоже Василия, с четырьмя детьми. Всего восемь человек. Тот дом был деревянный, но, как говорят, старее поповой собаки. Пришлось перестраиваться. А уж дерева в тамбовской степной стране не найти, поэтому в основном дома строили из самана. Да и с кирпичом было тоже не очень, с учётом того, что и денег-то на покупку не было, поэтому поставили прямо на землю. Ну, уж теперь и продолжу. Тоже пришёл в упадок и этот дом, в смысле – мог упасть, потому что со временем, из-за отсутствия фундамента, стены стали потихоньку разрушаться. Отец в совхоз обратился за помощью, дайте, мол, лесу, здесь построиться хочу, двое сыновей, из армии потом вернутся, работать здесь же будут. Но сказали – твои проблемы, ищи сам. Вот отец и стал искать, нашёл работу в Московской области, куда мы потом все и уехали…
К нам в гости, в наш домик-дачку, приехали родители Марины. Было это, вероятно, году в 1988-м, летом. Фотография тоже редкая, с отцом Марины. О чём-то беседуют два наших отца. Им просто, потому что оба умеют вести и поддерживать разговор. Оба умные, мыслящие трезво, не чета нам. Может быть, разговор идёт о жизни странной современной с развивающейся перестройкой, а может быть и о войне – оба воевали. Отец Марины – из Скопинских курсантов. В одном из боёв (в Житомирско-Бердичевской операции 1943 года) он был ранен. Живым остался потому, что после команды «вперёд» он выскочил из окопа первым, и в этот момент снаряд влетел в их окоп. Все его друзья погибли, а он получил сильные ранения. Вся война последующая прошла по госпиталям…
И эта тоже редкая, отец Марины рядом с тремя внуками – двое наших, дочка и сын, и их двоюродный брат, племянник Марины и мой крестник…
Колечко на палец, сзади сбоку свидетельница Оля, Маринина сестра. День этот – 1 ноября 1975 года, в Долгопрудном. Дружком-свидетелем у меня был мой сокамерник по общежитию. Работали мы тогда в Центральной аэрологической обсерватории известной (ЦАО). А свадьба сама была через неделю, 7 ноября. Пришлось Марине во второй раз платье подвенечное надевать. Но об этом мало кто знал. Так что на фотографии Марина – самая настоящая невеста…
Мы с сыном Колей встречаем из школы Веру. Сфотографировала нас моя бывшая студентка Кюнтцель, из немцев Поволжских. Она за племянницей своей пришла. Оказалось – рядом живёт. Фотографию эту она потом через своего брата передала, тоже Кюнтцеля, Романа, и тоже студента, и тоже моего…
Снова Победа, которая не может жить без «кудрей старого козла». Не очень далеко от нашего домика-дачки-вагончика есть (была) детская площадка, которую оформил деревянными поделками местный мастер-любитель. Там были домики-теремки, звери сказочные. Как раз за нами глаз какого-то животного, вероятно – кота. А мы-то сами, все четверо, – ровесники. На первой фотографии рука моя вперед ушла с фотоаппаратом…
Привал в пути. Коля, мой друг и сокурсник, прилёг, я стою, а фотографирует Колин друг, Володя. Не очень внятная для просмотра. Мы на первом курсе учились, а здесь лето после первого курса. Коля из Нефтегорска, Краснодарского края. Уговорил поехать походить по Северному Кавказу. Сначала мы вчетвером, с ещё одним Колиным другом, Мишей, ходили в районе Хадыженска, речек Белая и Серебрянка, ночевали у пастухов-армян, у заготовщиков дранки, на станции водозабора, где Мишин дядя работал, дежурил как раз в это время. Иначе, кто бы нас на эту станцию пустил. Поднимались на плато, с которого хорошо видна гора Фишт с облачным воротничком. А потом мы уже втроём, без Миши, пошли через Северный Кавказ в Лазоревское. Побыли на море неделю – и домой уже на поезде. Пришлось на море картину такую наблюдать. Мы со своей палаткой расположились чуть повыше на берегу каменной речки, а ниже нас, по руслу, стояло много палаток. Прошли ливни в горах, и каменная речка превратилась в мощный водный поток. До нас вода не дошла совсем немного, а ниже – снесла некоторые палатки, вещи из палаток вымыла. Поток прошёл быстро, и снова – каменная речка. Но здесь мы ещё идем к этой каменной речке, ещё будем петь песню в одной деревеньке «Ой ты степь широкая…» на три голоса под Володину гитару ближе к ночи, и нам местные приведут в магазин продавщицу, чтобы мы купили продуктов. Будем в этом же посёлке ночевать у Марии Васильевны (бывшей связной партизанской; у меня есть где-то и её фотография), которая встанет рано утром и наловит нам к завтраку форели. Каменная речка ещё впереди…
Снова пятый из нас, Коля, – с фотоаппаратом. Пока самый маленький из нас – Том. Приобрели мы его за сто сорок рублей в 87-м году, в начале года. Как сказал мой брат: «Да я за такие деньги лучше телёнка или поросёнка купил бы». Но мы и бесплатно поросёнка не взяли бы. Это мы недалеко от нашего дома на Пятницкой, во дворе Ордынки. Том в это время уже воспитанный был, по нашим понятиям. При нас в кухню не заходил. Уляжется в дверях, лапки чуть-чуть на порог положит и наблюдает за нашими вкусовыми ощущениями. Гулял с ним, обычно, я. Он уж ждёт этого момента. Подойдёт время, скажу: «Ну, что, Том, пойдём гулять?» «Гулять» – для него ключевое слово. Он аж взовьётся весь, прыгает, по квартире носится – гулять начинает. А дальше: «Том, неси верёвочку». Бежит в коридор, приносит свою вещь – поводок. В деревне у нас домашних, избяных (комнатных), собак не было. Место собаки – во дворе. Так вот отец, в один из приездов к нам, посмотрел, как мы с Томом обходимся, и говорит: «Да вы с ним, наверно, из одной тарелки едите?» Ну, что ж, возможно, что и так. Во всяком случае, отец потом играл с ним, а дальше, представилась бы возможность пообщаться подольше, и пообедать вместе вряд ли отказался бы. Мама говорила: «Какой Том ласковый. Придёт утром к кровати, голову положит на подушку, нос в нос, и смотрит. Только что не говорит». Убежал он от нас. Один раз такое было – пропадал двое суток. Но вернулся, нашёл дом. А потом исчез. Только остался на фото из того времени…
А это – произведения Валеры, двоюродного брата. На фотографии его мама, тётя Тоня, со своими родителями, моими бабушкой и дедушкой. Значит, что точно до 1958 года или лето этого года. А на другой – мы с братом Мишей, выглядываем из-за зарослей вишни. На третьей – лето 1956 года, самое начало июля, скоро родится наша сестра, Валя, названная вначале Таней. Фотоаппарат у Валерика был на штативе, с выдвижным объективом. Снимки контактные, с негатива. Фотоувеличителя у него не было. В горнице у нас, помню, целая фотолаборатория была, с проявкой, сушкой. С тех времён у меня сохранился ещё фотобачок для проявки. Теперь в нём винтики-болтики разные на даче хранятся. Валера в это время только учился ещё в Воронежском медицинском. Так что летом часто в гостях у нас бывал, да и на зимние каникулы иногда приезжал…
1991 год. Наша деревенская срелняя школа. Собрались мы, кто смог приехать, на 25-летие её окончания. В пёстром платье, в центре, наша мама классная, Любовь Ивановна Казакова, учитель истории. Я в подарок ей книжку историческую привёз, «Смутное время» называется. Приурочилось как раз к нашему смутному времени. (Чуть-чуть напомню о «смутном времени»: буквально через полтора месяца и стали транслировать по телевизору, по всем программам, балет «Лебединое озеро» – ГКЧП.). Дядьки-тётки сорокалетние. И всех их, кроме моего друга Саши, я не видел двадцать пять лет. Снова пришлось знакомиться…
Эта фотография приехала издалёка, из Кишинёва, в поезде перед отъездом оттуда. Там жила с мужем Николаем, тётя Тоня, дочка бабушкина. В 70-м году, в зимние каникулы, уговорил я бабушку во второй раз в её жизни сесть в поезд, в гости к дочке с зятем поехать. Вот там нас и запечатлели. Пробыли мы в Кишинёве дней пять. По городу нагулялись. Обычно мы с дядей Колей впереди, бабушка с тётей Тоней где-то сзади, за нами следом. А дядя Коля меня водил всё по дегустационным точкам. Вина пробовали с ним всякие молдавские. Сухие, десертные, столовые, красные, белые и прочие разных названий. Все вкусные и на всякий вкус, но после пятой-шестой дегустации вкус примерно одинаковым становился, да и сама дегустация начинала попахивать некоторой другой целью. Хорошо, что тётя Тоня заканчивала её разворотом к дому…
А вот в центре и Миша, друг Коли Ельшина, о котором я раньше говорил, рядом со мной. Это наш путь к плато перед горой Фишт на Северном Кавказе. Стоим мы у источника, который течёт с горы, с ледника. Вода холоднющая, так сразу, да, тем более, на жаре, пить нельзя. Руки в ней быстро от холода немеют. Фотографировал нас моим фотоаппаратом второй Колин друг, Володя. И ведь что интересно. Примерно по такой же воде холодной приходилось нам пробираться с берега на берег, где можно пройти. Речки-то в горах вилючие. Туда-сюда, туда-сюда. Берег пологий – берег крутой. И мы тоже с пологого берега на другой пологий виляем через речку. И ничего, никакой простуды не было. Ноги мокрые весь день, сами мы потные. У костра вечером просушимся, выпьем водки немного, конечно, что с собой в грелках брали, по совету Колиного отца. На другой день снова по берегам – с одного на другой. Только что берегись, не поскользнись на камнях. Обувь-то, как видно на фото, по речкам таким не ходок. У нас с Колей – кеды, а у Миши – вообще босоножки…
Дурачимся мы тут, в нашей деревне детства, на лужайке между двумя домами. Это примерно 1962-63 гг. За нами виден дом моего друга Саши. Дальняя его половина и принадлежала отцу Саши, а вторая половина – брату отца, то есть Сашиному дяде. Саше фотоаппарат привезли в подарок. Вот он им что только не фотографировал. Утка идёт с утятами – щёлк её, корова проплелась, собака – и им место на негативе. Вот и нам повезло. А мы и постарались. На плечах у нас с Шуркой, нашим замечательным футболистом, Юрка, из соседнего дома, который не попал на фотографию. Слева, с бутылкой, пустой, конечно, брат Юркин, Витька, а справа – Генка, сын нашего управляющего отделением совхоза. Это как раз время тех самых футбольно-велейбольных игр, на которых и закончилась наша деревня. Играли мы и у нашего дома, той же примерно компанией. Покуривали – баловались, где-нибудь в овражке. А потом, чтобы запах перебить, чесноку наедимся – Сашка приносил. Едкий такой сорт, его отец выращивал именно такой жгучий. Но бабушку Веру не проведёшь. Только заявимся – она сразу же:
– Ребяты, вы, никак, опять курили?
– Ну что ты, тётя Вера, ничего мы не курили.
А того не догадываемся, что чем больше от нас чесноком воняет, тем больше мы скрывали свой грех. Сашка говорил:
– Ну, Серёжка, и нос у бабки твоей, за километр учует.
Нос-то у неё был, действительно не маленький. Но тут и с маленьким носом всё было ясно…
А это уж какой-то страшно далёкий год, скорее всего 1952-й. Краснодар, куда хотели уехать отец и мать от бескормицы, где они чуть не стали городскими. Это значит, что отцу тридцать лет, а маме – двадцать шесть. Уехали потому, что в колхозе дали на трудодень за 1951-й год всего по сто двадцать граммов овса. То есть оставили колхозников совсем без хлеба. А нас в семье шесть человек. Вот родители и решили, что поедут на заработки в Кропоткин, может быть там и устроятся, так и нас всех заберут, а оставшимся хлебом как-то остальных можно пропитать. Так, может быть, и случилось бы, но в начале 53-го года мы с братом сильно заболели скарлатиной. До врачей там добраться невозможно, тем более – зимой. Да ещё и сердце у дедушки разболелось. Родителей назад и вернули. Помню посылку одну из Кропоткина, фруктовую. Но из сухофруктов. Запах по дому стоял такой нам неизвестный. А сколько разных вкусностей в ней было! Я думаю, что все любят запах сушёных фруктов, ассорти. Но для меня это как-то особенно, потому что я как наяву вижу себя и брата на печи, а дедушка осторожно (ящик и гвоздики ещё пригодятся) открывает эту деревянную шкатулку, достаёт упаковочки, да ещё и несъедобное, но очень нужное при колхозной жизни, – небольшую пачечку денег, сто рублей рублями, почти новенькими, отбирали там специально, наверно…
А здесь – последствие времени. Следующая бабушка, уже Марина, с внучкой Тоней. Это наша дача в Домодедовском районе, перед открытым крыльцом. Как будто есть закрытое. Ничего подобного. То есть так и не сподобились построить закрытое. А и не будем мы строить закрытое. Но нам так очень нравится. Холодно – беги в дом…

