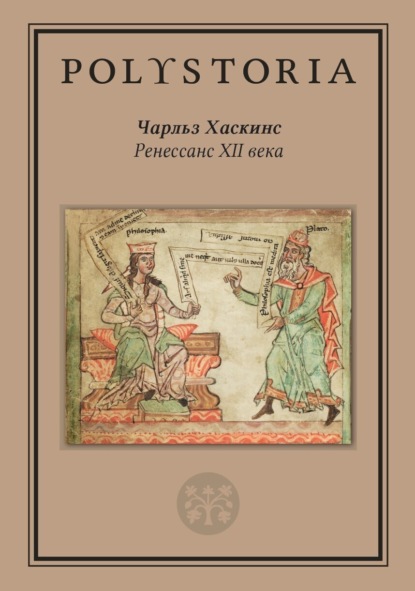
Полная версия:
Ренессанс XII века
Для монастырей в целом главным источником являются уставы (Consuetudines) различных орденов, а также многочисленные биографии и хроники отдельных учреждений; но для XII века нам не хватает конкретных деталей, приведенных в более поздних и более систематических источниках. Для исчерпывающей библиографии см.: “Cambridge Medieval History”, том V, глава 20. Неплохое исследование монастыря как института – в работе F. Pijper “De Kloosters” (Гаага, 1916). Интересный очерк авторства нынешних бенедиктинцев у U. Berliere – “L’ordre monastique” (второе издание, Париж, 1921) и F. A. Gasquet – “English Monastic Life” (Лондон, 1904). Об интеллектуальной жизни Клюни см.: E. Sackur “Die Cluniacenser” (Галле, 1892–1894); о цистерцианцах см.: H. d’Arbois de Jubainville “Études sur l’état intérieur des abbayes cisterciennes au XIIе et au XIIIе siècle” (Париж, 1858) и E. Vacandard “Vie de Saint Bernard” (четвертое издание, Париж, 1910). Монтекассино все еще ждет своего исследователя; тем временем ознакомьтесь с превосходными исследованиями E. A. Loew “The Beneventan Script” (Оксфорд, 1914) и E. Caspar “Petrus Diaconus” (Берлин, 1909). О монастыре в Ле-Беке см.: A. A. Porée “Histoire de l’abbaye du Bec” (Эвре, 1901); об аббатстве Сен-Эвруль – введение к пятому тому книги L. Delisle “Ordericus Vitalis” (Париж, 1855); об аббатстве Сен-Мартен в Троарне – R. N. Sauvage “L’abbaye de Saint-Martin de Troarn” (Кан, 1911). О Вестминстерском аббатстве см.: J. A. Robinson “Gilbert Crispin” (Кембридж, 1911); об английских цистерцианцах – F. M. Powicke “Ailred of Rievaulx” (Манчестер, 1922). Об интеллектуальной жизни – G. G. Coulton “Five Centuries of English Religion”, том I, с. 1000–1200 (Кембридж, 1923). О Германии см.: A. Hauck “Kirchengeschichte Deutschlands” (Лейпциг, 1887–1911); об Испании см. отдельные исследования, такие как M. Férotin “Histoire de l’abbaye de Silos” (Париж, 1897) и монография о Риполе, которая будет упомянута в следующей главе.
Собор как институт описан в учебниках канонического права, а как интеллектуальный центр все еще требует исследования. Между тем можно обратиться к биографиям выдающихся архиепископов и епископов, например в “Dictionary of National Biography”, или к монографии V. Rose “Ptolemaeus und die Schule von Toledo” в “Hermes”, том VIII, с. 327–349 (1874). “Necrologio del Liber Confratrum di S. Malteo di Salerno” превосходно издан C. A. Garufi (Рим, 1922). О соборных школах см. в главе XII.
Обычные книги о жизни при дворе или в замке мало что сообщат об этих местах как интеллектуальных центрах. См. вместо этого: E. Faral “Les jongleurs en France au moyen âge” (Париж, 1910); K. J. Holzknecht “Literary Patronage in the Middle Ages” (Пенсильванский университет, докторская диссертация, 1923); а также многие другие книги о трубадурах. О Генрихе Льве см.: F. Philippi в “Historische Zeitschrift”, том CXXVII, с. 50–65 (1922). О дворе Генриха II см.: W. Stubbs “Seventeen Lectures on Mediaeval and Modern History”, главы 6 и 7 (третье издание, Оксфорд, 1900); С. Н. Haskins “Norman Institutions”, глава 5 (Кембридж, 1918); С. Н. Haskins “Henry II as a Patron of Literature” в “Essays in Mediaeval History Presented to Thomas Frederick Tout”, с. 71–77 (Манчестер, 1925). О сицилийском дворе см.: С. Н. Haskins “Studies in the History of Mediaeval Science”, главы 9, 12–14 (Кембридж, 1924) и “England and Sicily in the Twelfth Century” в “English Historical Review”, том XXVI, с. 433–447, 641–665 (1911). Также в университетской библиотеке Гарварда есть неопубликованные докторские диссертации – “Englishmen in Italy in the Twelfth Century” P. B. Schaeffer (1923) и “Henry of Avranches” J. C. Russell (1926).
Обширная литература о средневековых городах тоже мало говорит об их интеллектуальной жизни в этот период. Блестящий очерк ранней истории северных городов см. в книге H. Pirenne “Medieval Cities” (Принстон, 1925); о североитальянских переводчиках – С. Н. Haskins “Mediaeval Science”, глава 10.
Об установлении связей см.: J. J. Jusserand “English Wayfaring Life in the Middle Ages”, J. Bédier “Les légendes épiques”, общие труды о торговле, F. Ludwig “Untersuchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII. und XIII. Jahrhundert” (Берлин, 1897) и С. Н. Haskins “The Spread of Ideas in the Middle Ages” в “Speculum”, том I, с. 19–30 (1926).
О темах этой главы см. также в библиографических справках к другим главам, в частности к главе VIII.
Глава III. Книги и библиотеки
(пер. Ивана Мажаева)
Любое исследование интеллектуальной среды XII века обязано обращаться к книгам, доступным для читателей того времени, учитывать особенности их создания и использования. Разумеется, было бы предпочтительнее (если бы такое вообще было возможно) изучать интеллектуальный фон каждого писателя, основываясь на приводимых им цитатах, его путешествиях и книгах, к которым он имел доступ. По крайней мере, нам уж точно следовало бы отказаться от существующих ныне предубеждений касательно не только таких очевидных вещей, как тиражи и продажи, но и более опасных предположений о якобы легком доступе к стандартным материалам. Без реалистичного представления о библиотеках изучаемой эпохи мы легко можем прийти к ошибочному пониманию происходившего. «Платон, – утверждает Колтон[43], – вполне мог бы пожать руку Ансельму», но в реальности это было невозможно: греческих рукописей на Западе не было, Ансельм не знал греческого, никаких переводов Платона на латынь не существовало, за исключением фрагмента «Тимея». Превосходным примером правильного подхода к исследованию автора XII века является предисловие Леопольда Делиля к «Церковной истории» Ордерика Виталия, где мы находим каталог библиотеки его монастыря Сен-Эвруль, подробное изучение образовательной среды аббатства, краткий обзор прочитанного автором, особенно в том, что касается цитируемых им материалов, а также свидетельства его нечастых поездок в такие отдаленные края, как Камбре и Вустер.
Нужно помнить, что люди Средневековья, говоря о библиотеке, не имели в виду специальную комнату и уж тем более не представляли себе отдельное здание. Библиотеку называли латинским словом armarium, буквально означающим стеллаж или книжный шкаф. По сути, это и было «библиотекой». Обычно она находилась в церкви, а позже, довольно часто, – в помещении, примыкавшем к клуатру, с полками, врезанными в стену. В некоторых случаях существовало также отдельное место для учебных книг. Такие собрания, отнюдь не по вине их владельцев, были довольно малы, а самые ранние монастырские каталоги включают в себя буквально несколько томов, десятка два или около того. «Установления» (Consuetudines) Ланфранка, написанные для английских бенедиктинцев в конце XI века, допускают, что все монастырские книги можно разложить на одном ковре, но в то же время их количества будет достаточно для того, чтобы обеспечить каждого монаха одним экземпляром для чтения на весь год. Именно такое количество книг являлось обязательным минимумом: «Монастырь без библиотеки – все равно что замок без оружейной», – гласила поговорка того времени (Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario).
Подобные коллекции разрастались за счет подарков, покупок или изготовления прямо на месте. В XII веке книги покупали нечасто, поскольку тогда не было еще ни прослойки профессиональных писцов, ни сформировавшегося рынка книг, однако Болонья и Париж уже тогда становятся местами, где можно было приобрести книги. Рукописи, естественно, ценились очень высоко, особенно большие богослужебные книги для хора. Мы знаем о великолепной Библии, купленной за 10 талантов, и о миссале, обменянном на виноградник. В 1043 году епископ Барселоны приобрел у еврея два тома Присциана в обмен на дом и участок земли. Есть сведения о дарениях библиотекам: от монахов, поступавших в монастырь, от путешественников, которые пользовались его гостеприимством, но особенно – по завещанию. Например, в XIII веке кафедральный собор Руана перечисляет следующие подарки: от архиепископа Ротру (1165–1183) получили «Естественную историю» Плиния, письма святого Иеронима, трактат блаженного Августина «О граде Божьем», «Этимологии» Исидора Севильского, труды Витрувия, а также два тома трудов предшественника Ротру, архиепископа Гуго; от архидьякона Лаврентия – половину Библии; от господина Галерана – миссал; от господина Р. де Антана – девять томов Библии, один из которых был одолжен аббатству Сен-Жорж-де-Бошервиль в обмен на Псалтирь с комментариями (стоит отметить, что практика заимствования оставалась еще довольно популярной). В 1164 году епископ Филипп из Байе завещал библиотеке Ле-Бека 140 томов, 27 из которых так и не прибыли; в 1180 году Иоанн Солсберийский оставил собственную маленькую библиотеку Шартрскому собору. Главным источником пополнения библиотеки, однако, являлось производство книг в самих монастырях, где труд монахов не оплачивался, а запасы пергамена часто можно было получить с собственных земель.
Монастырский скрипторий был самостоятельным учреждением. Хотя переписывание книг, согласно ранним уставам, не являлось регулярным послушанием монахов, оно очень быстро стало признаваться достойной формой труда, и «каждое возрождение монашеской дисциплины сопровождалось обновленным рвением к письму»[44]. Клюнийцы освободили переписчиков от службы в хоре, а аббат Петр Достопочтенный постоянно настаивал на том, что переписывание – намного более достойное занятие, чем работа в поле. Цистерцианцы позволили своим переписчикам не трудиться в поле, если речь не шла о сборе урожая, и допускали к запретной кухне для удовлетворения их трудовых нужд. Картезианцы сажали монахов за переписывание книг в нескольких своих обителях. Ослабевающее со временем рвение стимулировалось надеждой на вечную награду: «Ибо за каждую букву, строчку и точку мне прощается грех», – пишет монах из Арраса в XI веке. Ордерик Виталий повествует нам о грешном монахе, который заслужил спасение, переписывая книги, избежал ада, поскольку его труды превысили его многочисленные прегрешения на одну-единственную букву. И тем не менее задержать монахов на этой работе было непросто, и сведения о наемных переписчиках начинают появляться все чаще и чаще. Даже монастырские переписчики могли работать по найму, как, например, в случае, когда Фридрих Барбаросса заказал миссал и сборник писем из Тегернзее.
Переписывать книги от руки было как минимум утомительно, а в некоторых случаях – мучительно. Даже такой усердный переписчик, как Ордерик Виталий, был вынужден откладывать перо, когда пальцы немели от зимней стужи, а брат Лев из Новары в X веке жаловался, что пока три пальца пишут, спина согнута, ребра впиваются в живот и от этого страдает все тело. Что же касается необходимого времени, то есть несколько описаний, дошедших до нас из более раннего и более требовательного к переписчикам периода. В 1004 году Константин из Люксейского аббатства скопировал так называемую «Геометрию» Боэция за 11 дней. Объем рукописи составлял примерно 55 современных печатных страниц. В XII веке декан из Синт-Трейдена потратил целый год на то, чтобы составить сборник гимнов, начиная с заготовки пергамена, заканчивая финальным украшением и музыкальной нотацией. Известно также, что в Леоне в 1162 году произошло подлинное чудо: там Библию удалось скопировать всего за шесть месяцев и иллюминировать в течение седьмого[45], в то время как чуть позже, в 1220–1221 годах, переписчик из Новары справился с этим за год с четвертью. Если требовалось быстрое исполнение, то переписываемый том делился на части, чтобы над ним могли трудиться сразу несколько монахов.
В любом случае окончание работы воспринимали вполне по-человечески, о чем свидетельствует множество подписей. Фраза «Хвала Господу, что работа окончена» является самым распространенным выражением, дополненным надеждами на небесную награду и порой желаниями более земными – вина, пива, жирного гуся, хорошего обеда:
Explicit, Deo gratias.Finito libro sit laus et gloria Christo.Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus.Propter Christum librum bene condidit istum.Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat.Qui scripsit scribat et bona vina bibat.Finito libro pinguis detur auca magistro.Detur pro penna scriptori pulchra puella.Конец, Богу благодарение.Закончена книга в похвалу и славу Христа.Книга написана, благословен писавший.Христа ради он достойно написал эту книгу.Писавший пусть пишет, вечно пребудет с Господом.Писавший пусть пишет и пьет хорошие вина.Пусть за долгий труд магистру воздастся гусем.Пусть писцу красивой девушкой воздастся.Переписчик начинает петь или играть:
Explicit expliceat, psallere scriptor eat.Explicit expliceat, ludere scriptor eat.Заканчивается и пусть заканчивается, а писец пойдет петь.Заканчивается и пусть заканчивается, а писец пойдет веселиться.Иногда он вполне осознанно гордится своей работой и прославляет ее, как, например, переписчик из Кентербери Эдвин:
Scriptorum princeps ego, nec obitura deincepsLaus mea nec fama: qui sim, mea littera, clama.Я первый среди писцов, и ни моя слава,ни мое признание не угаснут: буква моя, поведай обо мне.К XII веку различным службам монастыря были переданы специальные земли или доходы, и если библиотеке не оказывалось подобного внимания, то она, скорее всего, начинала зависеть от случайных подношений. Так, например, библиотекарь из Корби имел особое содержание для починки старых книг и создания новых, в то время как в Сент-Олбансе для найма переписчиков была выделена специальная десятина, достаточная для того, чтобы содержать как минимум одного постоянного писца. В Абингдоне сохранился детальный отчет о расходах на каждую службу в аббатстве, за исключением создания книг; а в Ившеме к 1206 году «приорат выделил десятину с одной деревни для того, чтобы предоставлять пергамен и выплаты переписчикам», в то время как «на средства из запасов ренты и десятины регент хора приобрел чернила и краски для оформления и материалы для переплета»[46]. Что же касается длинного списка поучительных книг, которые Отлох Санкт-Эммерамский скопировал и раздал своим друзьям, то они были созданы в редкое свободное от выполнения обычных обязанностей школьного учителя время.
В интересующий нас период большинство книг написаны на пергамене, поскольку папирус перестал использоваться уже в раннем Средневековье, а бумагу на Западе еще не знали. Тщательно изготовленный толстый пергамен из овечьей кожи или тонкий из кожи ягненка нарезался и складывался в тетради, а затем, согласно определенным правилам, разлиновывался[47]. Рукописи существенно отличались в размерах: хотя сохранилось множество Библий и богослужебных книг большого формата, написанных размашистым почерком, XII век оставил нам значительное количество книг размером в 1/16 листа или меньше, написанных легко читаемым, но часто микроскопическим почерком, достаточно маленьких, чтобы помещаться в кармане путника. Начало XII века стало одним из золотых периодов средневековой рукописной книги, поскольку рука еще хранила память о читаемости каролингского минускула. Вскоре мы обнаружим зачатки готических росчерков, лигатур и многочисленных сокращений, которые станут распространенным явлением в XIII веке, когда вернется и скоропись.
XII век был также временем возрождения искусства иллюминирования манускриптов, поскольку каролингская традиция в большинстве мест к XI веку исчезла. Прекрасные инициалы XII века уже предвещали великие достижения грядущей эпохи. На тот момент искусство росписи в основном ограничивалось инициалами, выполненными в красном, зеленом и золотом цвете, но мы также знаем, что Петр Коместор впервые добавил изображения фигур в свою знаменитую «Схоластическую историю». Известным образцом монашеского изобразительного искусства XII века стали также иллюстрации к книге «Сад наслаждений» (Hortus deliciarum) аббатисы Геррады Ландсбергской; книга погибла в пожаре вместе со всей Страсбургской библиотекой в 1870 году. Новый уровень художественного мастерства в этот период стал крайне важным этапом для развития искусства в целом. Еще одно проявление особого внимания к книжному оформлению – превосходные тиснения на кожаных переплетах, которые дошли до нас из того столетия.
Что же таили в себе манускрипты XII века? Дадим слово непререкаемому авторитету, доктору Монтегю Родс Джеймсу[48]:
Сила и энергия Европы тогда достигли небывалой силы в каждой из жизненных сфер, и не в последнюю очередь в той, что интересует нас. Наши библиотеки на сегодняшний день переполнены манускриптами XII века. Копии трудов Григория, Августина, Иеронима, Ансельма исчисляются сотнями. Это век великих Библий и глосс – отдельных книг или набора томиков Библии, испещренных комментариями между строк и на полях (многие из которых, к слову, были написаны, как кажется, в Северной Италии). Огромен также труд писателей того времени, таких как Бернард, Гуго и Ришар из Сен-Виктора, Петр Коместор, Петр Ломбардский. Двое последних были авторами самых популярных учебников Средневековья: «Сентенции» (основы вероучения) Петра Ломбардского и «Схоластическая история» (комментированный пересказ библейской истории) Петра Коместора. Орден цистерцианцев, основывавший свои обители повсюду, на мой взгляд, особенно активно пополнял свои библиотеки изящными, но аскетичными копиями стандартных трудов, избегая украшательства как в рукописях, так и в постройках, не особо заботясь о светской учености.
Мы еще даже не добрались до множества миниатюрных Библий, сентенций, сумм, многочисленных учебников, а также великих богословских и юридических комментариев XIII века.
Что же касается наполнения библиотек в XII веке, то они содержали в себе не только копии, но и множество древних рукописей. Об их наличии мы знаем частично благодаря каталогам того времени, частично по более поздним описаниям библиотек, по владельческим надписям, оттискам и прочим характерным отметкам, которые можно обнаружить на этих томах и сегодня, хотя многие из них были утрачены при повторном переплетении. Воссоздание содержимого этих библиотек представляет не только профессиональный интерес, но и общую значимость, поскольку дает нам представление о европейском сознании в определенную эпоху. Каталоги[49], количество книг в которых могло исчисляться даже трехзначными числами, не всегда в состоянии прояснить ситуацию, поскольку обычно это сухие списки на форзацах манускриптов, не сообщающие ничего о дате написания и зачастую неточно – о содержании: например, сочинения классических авторов записывали просто как «учебники» (libri scholastici). В более позднем Средневековье описания стали полнее и точнее, часто включали в себя первую строчку второго листа каждого тома, номер или оттиск. Эти каталоги практически никогда не составлялись в алфавитном порядке, поскольку в Средние века о нем особо не заботились, по крайней мере не шли дальше первой буквы. На современные телефонные справочники составители таких каталогов наверняка бы глядели с оцепенением американского курьера. Единственные каталоги, в которых я мог бы отметить хотя бы приблизительный алфавитный порядок, – это каталоги из Корби и из Сен-Бертена, но даже они сгруппированы по содержанию, в общих чертах, начиная с Библии, богослужебных книг и трудов Отцов.
Каждая хорошо организованная библиотека того времени, таким образом, обладала определенными постоянными элементами. Во-первых, Библией, часто с большим количеством копий, а в случае, если это был перевод святого Иеронима, то и с комментариями, которые дополняли текст тропологическими, аллегорическими и анагогическими интерпретациями, накладывавшимися на буквальный смысл массой стандартных и общепринятых толкований. Во все эпохи средневековый разум полнился не только фразами и аллюзиями, почерпнутыми из текста Писания, но и подтекстами аллегорий и мистицизма, кроющимися за каждым стихом. Вот и получалось, что «лисята, которые портят виноградники» в «Песни Песней» Соломона (II, 15) настолько часто толковались как еретики, что сами еретики – в ранних комментариях вальденсов – понимали это место так же. Даже без комментариев Библия обычно занимала несколько томов и именовалась bibliotheca, поскольку воистину была ею для тех, кто мог понять всю глубину ее смыслов. Естественно, определенные части Библии (например, Псалтирь, Евангелия, Послания апостолов) часто хранили по отдельности для использования в богослужебных целях. За Библией обычно шли богослужебные книги: миссал, антифонарий, лекционарий, градуал, тропарий и проч. – церковный календарь, один или несколько монашеских уставов. Затем шли труды Отцов Церкви: Амвросия, Иеронима, Августина и Григория. Их сочинения всегда были важной частью библиотеки, и это касалось не только комментариев к Писанию. Из всех четверых меньше всего места занимали Иероним и Амвросий, хотя письма Иеронима, превозносящие монашескую жизнь, пользовались широкой популярностью и потому их автор играл большую роль в традиции христианского вероучения. Ни в одном из средневековых каталогов мы не встретим полный список многочисленных сочинений Августина, хотя добрая их часть, включая экзегетические, богословские труды и «О граде Божьем», обычно присутствовала. Ни один другой автор не оказал более стойкого влияния на самые высокие уровни средневековой мысли; его значимость для XII века часто определяется формированием схоластической теологии и философии истории, как мы увидим это на примере трудов Оттона Фрейзингенского. Григорий Великий был очень популярен в Средние века, поскольку занимал более низкую интеллектуальную ступень, чем строгий и классичный Августин, а его истории о чудесах находили широкий отклик в человеческом легковерии. Писание, в его понимании, содержало пищу для любого ума – «пруды и отмели, по которым может перейти вброд ягненок, и глубины, по которым может плавать слон». Он помнил о нуждах всякого скорее в средневековой, нежели римской манере. Ни одна претендующая на полноту библиотека не считалась таковой без шести томов его «Морального толкования на Иова», этого великого «кладезя для истории литературы»; его «Бесед на пророка Иезекииля»; историй и чудес из его «Диалогов»; изложения обязанностей епископа в «Правиле пастырском». В 1133 году на самом отдаленном краю католического мира исландский епископ Торлак попросил, чтобы ему читали «Правило пастырское», пока он умирает, «и люди думали, что теперь он готов был встретить свою кончину смелее, чем до того, как чтение началось»[50].
Другой набор необходимых книг, «без которых ни одна библиотека благородного человека не может считаться полной», состояла из тех, кто передал (или переделал?) древние знания: Марциана Капеллы, Присциана, Боэция, Исидора Севильского и Беды Достопочтенного. Марциан, которого, хотя и с небольшим преувеличением, называли автором самых популярных произведений Средневековья после Библии и Вергилия, передал нам концепцию семи свободных искусств, описав каждое из них. Имя Присциана было неотделимо от латинской грамматики и, благодаря приведенным у него примерам, от большей части латинской литературы. Боэций был широко известен в XII веке благодаря своему гуманистическому «Утешению философией», богословским трудам, ныне возвращенным ему современной наукой, но прежде всего благодаря учебникам по логике, риторике, арифметике и музыке, а также ошибочно приписываемым его имени учебникам по геометрии. «Этимологии» Исидора оставались главной средневековой энциклопедией (иногда напоминающей детскую), хотя многие из описанных там чудес восходят к старому доброму Плинию. Никто не считал списки «Этимологий» XII века, но мы знаем, что к 850 году, то есть более чем через два века после их написания, 54 полные копии и более сотни выдержек попали из Севильи за Пиренеи. У Беды тоже был неплохой «тираж» в среде ирландских и англосаксонских монахов. Помимо его превосходных комментариев к Библии, его учебники считались образцовыми по части хронологии и астрономии.
Встречалось в библиотеках того времени и кое-что из области права, особенно права церковного. Германские кодексы и франкские капитулярии переписывались теперь редко, а «Свод гражданского права» пока только начинал распространяться. Зато регулярно можно было наткнуться на собрания папских писем, деяния церковных соборов, новый для того времени «Декрет Грациана». Поэзия была представлена в христианской форме, в основном Пруденцием, Венанцием Фортунатом, Фульгенцием и некоторыми стихами каролингского периода. Книги на народных языках редки.
Вокруг этого центрального ядра наиболее популярных сочинений прочее содержимое библиотек распределялось довольно неравномерно. В некоторых местах, как, например, среди немецких цистерцианцев, помимо Отцов почти ничего и не было. Классики, как мы увидим позже, попадались, но непоследовательно и нерегулярно. Часто хранилось что-то, вышедшее из-под пера каролингских теологов и гуманистов, таких как Алкуин, Рабан Мавр, Пасхазий Радберт, Гинкмар, Ремигий, Смарагд, а также «Книга об исчислении» (Computus) Хильперика Осерского. Жития святых, правда всегда разных, встречались повсеместно; кое-что из истории – всеобщие хроники раннего Средневековья, Григорий Турский, местные анналы региона или даже церкви. Конечно, нам следует быть готовыми столкнуться с чем-то уникальным, характерным для отдельно взятого монастыря или собора, будь то письма, биографии, труды их обитателей или материалы архивного характера. Известные писатели XII века, такие как святой Ансельм, святой Иво, святой Бернард и Петр Ломбардский, быстро обретали свое место на полках; однако менее успешные авторы постоянного положения в каталогах не имели, и, если судить по ним, новые знания по логике, медицине и естественным наукам распространялись крайне медленно.

