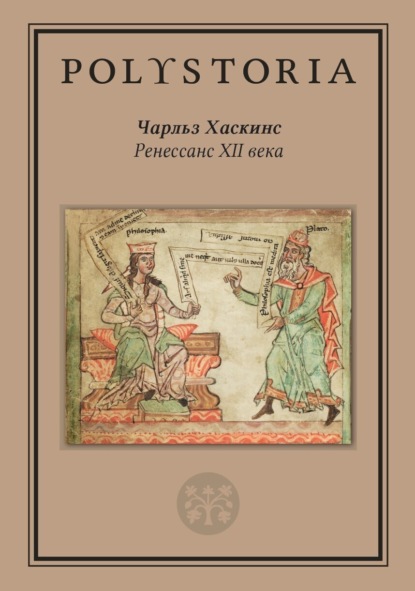
Полная версия:
Ренессанс XII века
Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров из каталогов, ведь, как говорил Анатоль Франс, нет ничего более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов рукописей[51]. В 1123 году Арнольд, аббат Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе, распорядился составить список тех 20 томов, которые он переписал за 27 лет своего служения для того, чтобы воссоздать библиотеку, уничтоженную пожаром: 14 из них, начиная с Пятикнижия, составляющего отдельный том, «чтобы освободить братьев от тяжести всей Библии», были библейского и литургического содержания; Отцы Церкви представлены Григорием, Августином и Оригеном; «История лангобардов» Павла Дьякона – историческое сочинение; есть также истории «славных войн язычников и христиан в Иерусалиме и описание святых мест», кое-что из агиографии. Фридрих, аббат Санкт-Годехарда в Хильдесхайме (1136–1151), передал своему аббатству 16 томов «из самого лучшего пергамена», а именно: 3 тома «Морального толкования на Иова» Григория, 8 томов проповедей и собеседований[52], 3 тома житий и две части Библии. Известные нам 44 тома из цистерцианского монастыря Поблет по большей части посвящены литургии. 85 томов, написанных в Фульде, – к тому времени почти все литургические или святоотеческие. Многое из сказанного выше справедливо и для аббатства Сант-Анджело-ин-Формис, подчинявшегося Монтекассино, библиотека которого, насчитывавшая 143 тома, пополнилась 20 псалтирями, 9 процессионалами, 9 антифонариями, но также и 4 книгами по медицине, лапидарием и «книгой басен». Более крупные библиотеки, разумеется, располагали бо́льшим разнообразием. До 1084 года собор Туля имел 270 томов – как церковных, так и классических текстов, включая хорошую подборку христианской и языческой поэзии. Практически такой же тематический разброс можно встретить среди 342 томов в Корби около 1200 года. Михельсберг в период между 1112 и 1123 годами обладал достаточно современной библиотекой, чтобы среди 242 томов в ней нашлось место «сарацинской книге по математике» и двум греческим книгам схожего содержания, а также оригинальной рукописи «Истории» Рихера Реймсского, которая ныне хранится в Бамберге. Из 102 томов Сент-Амана многие посвящены медицине. Не менее важную роль медицина играла и в Даремском соборе, библиотека которого из 546 томов, должно быть, являлась одной из самых больших в конце XII века.
Пока мы говорили только о корпоративных библиотеках монастырей и соборов, поскольку они были, пожалуй, самыми важными для XII века. Любой студент или клирик мог владеть книгами – никаких внутренних причин для подобных запретов тогда не существовало. Но имя владельца фиксировалось только в том случае, если позднее книгу дарили монастырю или библиотеке. Правители украшали книгами свои часовни, а образованные правители – как в случае с Генрихом Шампанским или графом Гинским – располагали отличными библиотеками книг на народном языке. Известны нам и королевские библиотеки. В Англии есть свидетельства о «книгах короля Гарольда» (libri Haroldi regis), а Генрих II, как мы знаем, собрал серьезную коллекцию сочинений, посвященных ему лично. Его сын Иоанн, наверняка не книжный червь, получил от аббата Рединга Ветхий Завет в шести томах, трактат «О таинствах христианской веры» Гуго Сен-Викторского, «Сентенции» Петра Ломбардского, «О граде Божьем» Августина (представьте Иоанна, читающего его в долине Раннимид!)[53] и некоторые другие тома. Все они, как удается судить, были одолжены аббату, равно как и «наша книга, именуемая Плинием», возвращенная несколькими днями позже[54]. Фридрих I хранил книги в Хагенау и Ахене, внушительная библиотека наверняка была и у Фридриха II. Людовик IX Святой тоже проявлял интерес к собиранию книг. И все-таки королевские и меценатские библиотеки тогда еще не вошли в моду, и нам придется подождать до XIV века и даже дольше, чтобы увидеть библиотеки правителей, из которых потом вырастут Ватикан, Лауренциана, Британский музей и Национальная библиотека Франции.
Средневековые библиотеки, конечно же, не были публичными, поскольку читающая аудитория к тому времени еще не сформировалась. Библиотеки не одалживали книги, как в будущем университеты. Они предназначались исключительно для использования их владельцами, хотя довольно часто встречаются примеры одалживаний с целью создания копий. Списки постоянных «заемщиков» появляются в более поздний период. С течением времени книги стали делить на те, которые хранились в сундуке под замком, и те, что выставлялись для свободного использования прямо на месте и приковывались цепью к столу для сохранности – «для общей пользы сцепленные» (cathenati ad communem utilitatem). «Прикованная Библия», которая часто являлась объектом столь праведного негодования со стороны протестантов, привязывалась именно в целях сохранности, а не для ограничения ее использования.
Не часто библиотека или ее часть занимает сегодня то же пространство, что в XII веке. Основные исключения – некоторые старые соборы Испании, Италии, Германии и Англии, но даже они порой перестраивались в более поздние времена. Примеры сохранности помещений монастырских библиотек, как в монастыре Санкт-Галлен или в цистерцианских аббатствах Австрии, довольно редки. Монтекассино до сих пор оправдывает свое название, поскольку все еще располагается на бесподобной горе, откуда Бенедикт Нурсийский «смотрел вокруг и внутрь себя»; но здания все современные, и бо́льшая часть старинной библиотеки ныне рассеяна по разным местам[55]. Когда в XIV веке Боккаччо посетил одно из таких помещений, его взору открылась печальная картина: дверь в библиотеку отсутствовала, окна заросли травой, рукописи покрылись толстым слоем пыли, а некоторые из лучших томов были разорваны на части или обрезаны по краям, потому что монахи использовали обрезки для изготовления карманных псалтирей и молитвенников на продажу. Возможно, ради красочности описания он несколько преувеличивал ситуацию, как это делал, например, Поджо Браччолини, когда описывал спасение своей знаменитой копии Квинтилиана из сырого и сплошь покрытого плесенью подвала башни монастыря Санкт-Галлен[56]. В любом случае самые бережливые по отношению к книгам монастыри свободно продавали их копии в XIV и XV веках. Роспуск английских монастырей при Генрихе VIII привел к тому, что их библиотеки были рассеяны по самым отдаленным и неожиданным местам, а раннее Новое время стало эпохой великого обветшания библиотек континентальной Европы. Заметный ущерб библиотекам нанесли Французская революция и близкие ей по духу волнения в других странах, где монастырские и прочие библиотеки изымались в пользу публичных хранилищ. В рамках секуляризации библиотека Мон-Сен-Мишель была перенесена в Авранш, а библиотеки Тегернзее и Бенедиктбойерна оказались в Мюнхене. Те, что ранее принадлежали флорентийским монастырям, попали в Центральную национальную библиотеку в Уффици. Но в большинстве случаев спасительный перенос происходил слишком поздно. Библиотека из Флери отправилась в Орлеан, но большая ее часть была растаскана протестантами в 1562 году, и теперь за ее фрагментами следует отправляться в Берн, Рим, Лейден, Лондон и Париж. Рассеялись библиотеки Ле-Бека и Боббио. Отдельные рукописи расплетали, развозили по разным землям, а на месте оставалась пара листов в качестве воспоминания. Стоило книге покинуть библиотеку, как она тотчас оказывалась в смертельной опасности. Она могла попасть в разумные руки и очутиться в какой-нибудь другой библиотеке, а могла пойти на пергамен, на обложки, на крышки для горшков, на патронташи. И все это вне зависимости от содержания, поскольку в случае с книгами время беспощадно к авторитетам.
В отличие от библиотек, об архивах в раннем Средневековье знали мало. Исключения составляли те случаи, когда традиции римской бюрократии все еще сохраняли определенную силу, как, например, в некоторых итальянских городах, и особенно в Папской курии. Еще совсем недавно практически никто не видел разницы между рукописями и официальными документами, а потому неудивительно, что в Средние века признание их отличий протекало крайне медленно. Один и тот же сундук или пресс использовался и для того и для другого, а один и тот же чиновник служил и архивистом, и библиотекарем, и часто много кем еще. Тем не менее как по происхождению, так и по дальнейшему использованию существовало различие между официальными документами и литературными трудами, и это различие четко проявляется вместе с развитием организованной администрации в XII веке. Из-за случаев уничтожения документов непрерывный цикл папских регистров и переписки начинается лишь с Иннокентия III (а именно с 1198 года), хотя папы хранили свои записи начиная еще с VI века, а Ватиканский архив – старейший в Европе. Но неслучайно, что единый реестр английских хартий, указов и свитков датируется только началом правления Иоанна Безземельного. Хотя стоит отметить, что наиболее развитое ведомство английского правительства – казначейство – хранило документы и до 1130 года, а знаменитая и уникальная перепись в «Книге Страшного суда» относится и вовсе к 1086 году. Сицилийская администрация была такой же ранней, как и английская, хотя самые ранние ее свитки, за исключением тех, что касались военных, пропали. К середине века здесь уже был свой казначей, скриниарий, ответственный за массу финансовых отчетов, списков земель и крепостных, которые, вероятно, восходят еще к римским реестрам. Именно здесь усвоили свои первые уроки бюрократии германские императоры, управление которых до того было, в сущности, домениальным и патриархальным, кочующим подобно перекати-полю и не знающим архивов. Французские архивы также были передвижными вплоть до 1194 года, когда потеря обоза в битве вынудила Филиппа Августа хранить свои хартии в Париже, в специально организованной для этого Сокровищнице хартий (Trésor des Chartes). Монастыри и соборы не сталкивались с такими проблемами, но им тоже приходилось заниматься сортировкой, классификацией и, в частности, копированием документов в большие картулярии, так называемые «Черные книги», «Белые книги» и «Красные книги». Это делалось в основном для сохранности документов и удобства ссылок на оные. Один из примеров – замечательный картулярий Мон-Сен-Мишель, составленный по заказу Роберта де Ториньи. Примерно в это же время появляются муниципальные архивы, а на юге – нотариальные реестры, как, например, реестр генуэзского нотария Джованни Скрибы, многое рассказывающий о средиземноморской торговле в 1155–1164 годах. В итоге идея архива, как местного, так и национального, прижилась. Некоторые из тех архивов до сих пор остаются на своем первоначальном месте. Если церковным архивам так или иначе пришлось разделить судьбу церковных библиотек, то городские архивы, в отличие от них, существуют по сей день и продолжают непрерывную традицию с XII века. Преемственность папства и английского правительства лучше всего иллюстрируют архивы Ватикана и большие коллекции подлинных свитков, собранных в настоящее время в Государственном архиве Великобритании.
Рост числа разнообразных документов, увеличение количества судебных разбирательств и развитие литературного мастерства в XII веке повлекли за собой еще одно следствие, а именно богатый урожай фальсификаций. Писательская сознательность в подобных вопросах была развита меньше, чем в более поздние времена. Да и можно ли в чем-то упрекнуть монахов, документы о собственности которых гибли во время набегов норманнов, и чтобы выстоять в прениях со своими беспринципными противниками – феодалами, первые были вынуждены ссылаться на лучшие из тех подделок, что им удавалось произвести. Но в то же время «создание подложных документов всегда было излюбленным занятием, особенно в те времена, когда литературное мастерство достигало нужного уровня»[57]. Самые известные из средневековых подделок относятся к более раннему периоду, например «Константинов дар», составленный в VIII веке, и «Лжеисидоровы декреталии» IX века[58]. Но и в XII веке подобного было достаточно. Например, у Вальтера Мапа мы читаем о том, что существовала идеальная копия печати Генриха II, а Иннокентий III счел необходимым усилить меры предосторожности, чтобы обезопасить папские буллы от подделывания. Не кто иной, как архиепископ Кентерберийский Ланфранк, в попытке обеспечить главенство Кентербери над Йорком, подделал девять документов, которые впоследствии были отвергнуты Папской курией, поскольку были без печатей и «не имели совсем никакого сходства с римским стилем». Еще один любопытный пример из XII века – так называемое «Установление о римском походе» (Constitutio de expeditione Romana), рассказывающее об обязанностях вассалов во время поездки императора в Италию за короной. «Установление», как утверждается, было издано самим Карлом Великим в 790 году, «до коронации», то есть за десять лет до того, как средневековая империя появилась на свет! Современные критики без труда выявили подделку и установили место ее происхождения в имперском аббатстве Райхенау на Боденском озере и автора – местного архивиста и учителя Удальрика: его руку и стиль узнают в целом ряде подделок, созданных для аббатства. Как архивист он выдает себя, вырезая пергамен из принадлежащих Райхенау хартий Карла Толстого, а как учитель – по рифмованной прозе этой и других хартий этого аббатства. Еще более системно в те же годы за переписывание всей документации Фульды взялся монах Эберхард, а документации Монтекассино – Петр Дьякон. С другой стороны, XII век не в ответе за те поздние фальшивки, которые были ему приписаны, как, например, хроника Ингульфа из Кройланда, поддельные хартии города Мессины или «Австрийская привилегия», якобы восходящая к Юлию Цезарю и Нерону, которую император Карл IV предоставил Петрарке для исторической критики. Работа, проделанная Франческо Петраркой и Лоренцо Валлой, служит нам напоминанием о том, что эпоха фальшивок порождает и критиков, и некоторые зачатки исторической критики мы обнаруживаем уже в XII веке[59].
Библиографическая справкаЛучшее описание средневековых книг можно найти в работе W. Wattenbach “Das Schriftwesen im Mittelalter” (третье издание, Лейпциг, 1896). О почерке см.: E. M. Thompson “Introduction to Greek and Latin Paleography” (Оксфорд, 1912) и M. Prou “Manuel de paléographie latine et française” (четвертое издание, Париж, 1925). О библиотеках см.: J. W. Clark “The Care of Books” (третье издание, Кембридж, 1909). Более популярна G. H. Putman “Books and their Makers during the Middle Ages” (Нью-Йорк, 1896–1897). Работа M. R. James “Wanderings and Homes of Manuscripts” (Helps for Students, No. 17) хотя и небольшая, но много чего черпает непосредственно из источников. Ценные наблюдения корифея в изучении рукописей содержатся в книге L. Traube “Vorlesungen und Abhandlungen”, том I (Мюнхен, 1909).
Лучшими путеводителями по содержимому средневековых библиотек являются каталоги, собранные G. Becker в “Catalogi bibliothecarum antiqui” (Бонн, 1885); см. также: T. Gottlieb “Über mittelalterliche Bibliotheken” (Лейпциг, 1890) и объемную серию средневековых немецких каталогов, опубликованных P. Lehmann и др., начиная с 1918 года. Множество любопытных фактов о популярности отдельных авторов собраны J. de Ghellinck в работе “En marge des catalogues des bibliothèques médiévales” в “Miscellanea” Francesco Ehrle (Рим, 1924). Специальные исследования об иллюминированных рукописях: M. R. James “The Ancient Libraries of Canterbury and Dover” (Кембридж, 1903); L. Delisle “Recherches sur l’ancienne bibliothèque de Corbie” в “Mémoires de l’Académie des Inscriptions”, том XXIX, часть I, с. 266–342 (1861); H. Omont “Recherches sur la bibliothèque de l’église cathédrale de Beauvais”, там же, том XL, с. I–93 (1916); R. Beer “Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll” в “Sitzungsberichte” Венской Академии, phil.-hist. Kl., том CLV, часть 3, том CLVIII, часть 2 (1907, 1908); P. Batiffol “L’abbaye de Rossano” (Париж, 1891). О странствиях кодекса Флери см. в работе E. K. Rand в “University of Iowa Philological Quarterly”, том I, с. 258–277 (1922). Формирование современного собрания из средневековых элементов мастерски изложено L. Delisle в книге “Le Cabinet des Manuscripts de la Bibliothèque Nationale” (Париж, 1868–1881).
О средневековых архивах см.: H. Bresslau “Handbuch der Urkundenlehre”, главы 4, 5 (второе издание, Лейпциг, 1912–1915). О подделках см. последнюю главу книги A. Giry “Manuel de diplomatique” (Париж, 1894); R. L. Poole “Lectures in the History of the Papal Chancery”, глава 7 (Кембридж, 1915). Об «Установлении о римском походе» см.: P. Scheffer-Boichorst “Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts”, с. I–26 (Берлин, 1897); “Die Reichenauer Urkundenfälschungen” (Гейдельберг, 1890).
Глава IV. Возрождение латинских классиков
(пер. Кирилла Главатских)
Начиная с падения Римской империи и вплоть до наших дней знание латинских классиков было главным культурным показателем каждой эпохи в Западной Европе. Никогда полностью не прекращаясь, их изучение развивалось в тесной взаимосвязи с текущим уровнем образования и интеллектуальной деятельности. В неспокойные времена раннего Средневековья классики на время оказались в тени, но вновь возродились вместе с наукой и образованием при Карле Великом и его наследниках. «Железный» X век отодвинул их на задний план, чтобы они вновь вышли на свет в эпоху Ренессанса конца XI и XII века. Частичным исключением стал XIII век как эпоха интенсивной деятельности скорее в философии и науке, чем в литературе, подпитываемой переводами с греческого и арабского больше, нежели прямыми заимствованиями из латинских текстов. Наконец, в XIV–XV веках наступило великое возрождение учености, в первую очередь латинской, которое нашло своего первопроходца в лице Петрарки, ценителя Цицерона, Вергилия и страстного собирателя латинских рукописей. Латинский дух гуманизма сохранялся даже после «возвращения» греческого языка, и долгое время латынь была основой современного гуманитарного образования.
Первые два возрождения были хоть и менее продолжительными, но от этого не менее подлинными. Вне всяких сомнений, IX век заслуживает внимания историка. Переписчики спасли от забвения многих древних, было создано значительное число выдающихся произведений латинской поэзии, и был задан уровень владения латинским языком и стилем на столетия вперед. Однако центры были относительно немногочисленны и разрозненны, и таких гуманистов, как, например, Луп Ферьерский, который «активно брал книги взаймы, но неохотно их давал» и переписка которого демонстрирует столь увлекательную картину жизни ученого в монашескую эпоху, встретить можно было нечасто. Более того, Каролингское возрождение ограничивалось землями франков, тогда как к XII веку культура распространилась далеко за их пределы, охватывая всю Европу, а не только Франкскую империю; и количество соборных и монастырских центров значительно возросло. Вместе с тем жизнь становилась более разнообразной и насыщенной, но это сулило классикам появление конкурентов и даже врагов. Помимо невежества и варварства, древним всегда приходилось противостоять религии. Теперь же они обрели нового врага – логику. Кривая возрастания и убывания интереса к классике в Средние века должна выстраиваться с учетом всех этих переменных.
Конфликт между христианством и латинскими классиками восходит к римским временам, поскольку латинская литература была частью языческой среды, в которой родилась новая вера и с которой она вела ожесточенную борьбу, а латинский язык и литература были восприняты Средневековьем как неотъемлемая часть собственного римского наследия. Латынь оставалась языком Церкви, и римская литература была открытой книгой, которую могли читать все, кто владел основами церковного образования. До тех пор, пока священные книги Церкви, ее вероучение, закон и ритуалы были на латыни, знакомство с латинским языком было обязательным для всех священнослужителей. Эта открытая книга, однако, была книгой языческой – в том, что касается религии, которую она признавала, если не напрямую проповедовала, и еще больше в ее взгляде на жизнь с ее искренним принятием мира со всеми его радостями и удовольствиями. Так из века в век передавалось неразрешенное противоречие, присущее культурной традиции и церковной системе. По мнению наиболее строгих последователей христианства, изучение латыни должно быть жестко ограничено основами грамматики, которые позволяют освоить практическое владение языком. Любое дальнейшее изучение древних в лучшем случае будет пустой тратой времени, а в худшем – опасностью для души. Сама по себе красота латинского стиля могла представлять опасность для людей, отвернувшихся от мира сего. Святой Иероним приводит часто цитируемый рассказ о видении, в котором ангел упрекал его в том, что он цицеронианец, а не христианин. Четвертый Карфагенский собор в 398 году запретил епископам читать книги язычников. «Последователи святого Петра и его учеников, – говорил легат Лев в X веке, – не будут иметь своими учителями ни Платона, ни Вергилия, ни Теренция, ни остального философского скота». Григорий Великий был против изучения даже основ грамматики, когда писал: «Я вовсе не гнушаюсь варварской неразберихи. Я презираю правильный порядок слов и падежи, потому что считаю совершенно неуместным, чтобы слова Небесного Судии ограничивались правилами Доната». Присциана и Доната критиковали за то, что они не упоминали имя Господа – упущение, за которое также обвиняли Конституцию Соединенных Штатов и таблицу умножения! Так, Смарагд в IX веке написал грамматику с примерами, взятыми из Вульгаты, а не из «опасных» языческих авторов.
К XII веку эти проблемы остались. Гонорий Августодунский вопрошал: «Какую пользу приносят душе борьба Гектора, споры Платона, поэмы Вергилия или элегии Овидия, которые, вместе с другими подобными им, теперь скрежещут зубами в тюрьме дьявольского Вавилона под жестокой тиранией Плутона?» Даже Абеляр удивлялся: «Почему епископы и учителя Церкви не изгоняют из града Божия тех поэтов, которым Платон запретил входить в свой град земной?», а между тем «Николай, секретарь Бернарда Клервоского, воздыхает о том очаровании, которое он когда-то нашел в Цицероне и поэтах, в золотых изречениях философов и в “песнях Сирен”»[60].
Гвиберт Ножанский жалел латинских поэтов своей молодости. К ним относились с особой неприязнью, иногда причисляя их к колдунам. Так, на иллюстрациях из «Сада наслаждений» Геррады Ландсбергской четыре фигуры «поэтов или колдунов», каждого из которых сопровождал злой дух, помещены вне круга семи свободных искусств. Когда Грациан около 1140 года подготовил «Согласование противоречивых канонов», одним из главных противоречий, которое он стремился примирить, был вопрос: «Должны ли священники быть знакомы с мирской литературой или нет?» Как показывает следующий аргумент, авторитеты выстроились с обеих сторон:
Исходя из всех этих примеров, видно, что клирики не должны стремиться к знанию мирской литературы.
С другой стороны, в Писании сказано, что Моисею и Даниилу была известна вся мудрость египтян и халдеев. Также известно, что Господь повелел сынам Израилевым отнять у египтян их золото и серебро. Нравственное толкование учит нас, что если мы находим у поэтов золото мудрости или серебро красноречия, то нужно обратить их на пользу учения о спасении. Кроме того, в Книге Левит сказано, что необходимо приносить в жертву Господу первые плоды меда[61], то есть сладость человеческого красноречия. Волхвы принесли Господу три дара, которые понимались некоторыми как три части философии[62].
Папа Климент и другие ссылались на то, что знание мирской литературы необходимо для понимания священных книг, а Грациан делал скромный вывод о том, что священники не должны быть невежественными. Очевидно, что для канонистов это была непростая проблема, и полностью она так никогда и не была разрешена, ведь даже в итальянском Ренессансе Кватроченто чувствуется веяние неприкрытого язычества.
Но на деле самым опасным врагом классиков была не религия, а логика и практические интересы, которые в конце концов убили классическое Возрождение XII века. Восприятие «новой логики» Аристотеля к середине столетия возвысило диалектику в сравнении с остальными свободными искусствами, и это неравенство только усиливалось с дальнейшим восстановлением аристотелевского корпуса. При таком объеме логики и философии, которые необходимо было освоить, оставалось мало времени и меньше охоты к неспешному изучению словесности. Логика встала во главе, и литература должна была уступить ей дорогу. Новое поколение учителей, как, например, так называемые «корнифициане», гордились своим подходом к обучению, в котором грамматике отводился минимум[63]. Точно так же риторы из Болоньи преподавали практическую риторику, не тратя время на Цицерона. Классические авторы (auctores) отступают перед искусствами (artes). В то время как соборные школы Шартра и Орлеана уделяли большое внимание классическим авторам, они начали исчезать из учебных программ новых университетов. Уже в 1215 году их убрали из курса по искусствам в Париже, а более полная учебная программа 1255 года предписывала изучать из латинских писателей только Доната и Присциана, делая упор на новые переводы Аристотеля. Париж стал олицетворять собой триумф логики, а грамматика и классики нашли пристанище в Орлеане. Последняя фаза борьбы очерчена в поэме Анри д’Андели «Битва семи искусств», написанной около 1250 года и повествующей о сражении книг, в котором грамматика олицетворяет Орлеан, а логика – Париж. В этом конфликте Присциану и Донату помогают главные латинские поэты, а также сочувствие автора поэмы, и логика на мгновение возвращается в свою цитадель только для того, чтобы восторжествовать в конце:

