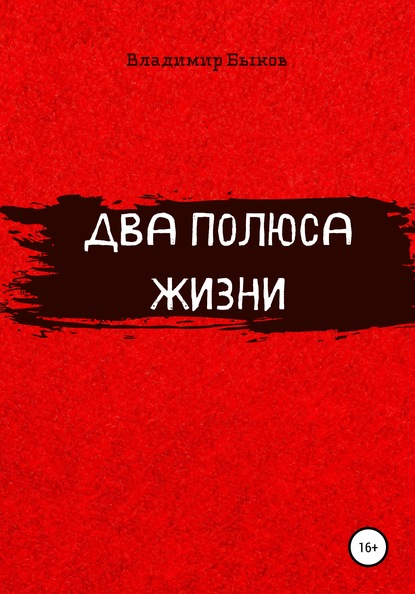 Полная версия
Полная версияДва полюса
«Меновую ценность имеют только предметы. Но есть учение, которое утверждает, что меновая ценность определяется исключительно трудом и что товары обмениваются между собой соответственно рабочему времени, нужному для их производства. Наиболее полное и прямолинейное теоретическое развитие учения о труде как единственном источнике ценности и отсюда о злоупотреблениях капитала имеется в исследованиях Карла Маркса.
Заблуждения и предвзятые идеи, лежащие в основе этого учения, явствуют из рассмотрения основного его положения, что равноценные товары имеют равную ценность потому, что в них содержится равное количество среднего отвлеченного человеческого общественно необходимого труда. Указанное положение прежде всего страдает полною неопределенностью.
Мы имеем рядом пшеницу урожайного и неурожайного года, железо из богатейших и бедных руд, продукты фабричной и ручной ткацкой работы, золото из богатых россыпей, бриллианты из единственных в своем роде копей, добываемых почти даром счастливыми искателями.
Разнообразие количества труда, воплощенных в указанных товарах, нам вполне известно; но самого количества его мы не знаем и определить не можем, а не зная этого количества на отдельных производствах и в общей их совокупности, мы ничего не можем сказать о средней общественно необходимой норме отвлеченного труда, и эта норма остается для нас величиной совершенно неизвестною и неуловимою.
Возьмем наудачу товары разного рода – драгоценные камни, апельсины, фазаны, убойный скот, дубовый лес, сибирские меха. Можно ли сказать обо всех этих предметах, что в них осуществлен человеческий труд в том же смысле, как в куске полотна или меры пшеницы? В куске полотна есть действительно труд, без которого он не существовал бы; но попробуем приложить ту же меру к вышеуказанным товарам другого типа, и выйдет несообразность. По Марксу более сложный труд (который он вводит в свою теорию) принимается только за повышенную или умноженную простую работу, и меньшее количество сложной работы приравнивается большему количеству простой.
На самом деле никакого перечисления сложных работ в простые не происходит, да и происходить не может, потому что наемный труд оплачивается разнообразно в зависимости от особых обстоятельств рабочего рынка. В конечном результате единица меры труда превращается в нечто неуловимое, и выставить положение, что ценность товаров измеряется количеством заключающейся в них простой работы – значит ничего не сказать.
Противоречия между повседневными фактами действительной жизни и учением Маркса убеждают нас в односторонности его теоретических построений. Но именно эта односторонность и обеспечила широкое распространение проводимых им идей в среде лиц, которые вели деятельную агитацию против господствующего в Европе политического и экономического строя.
Успех, выпавший на долю идей Маркса и его последователей, обусловливается особенностями положения рабочего вопроса в странах крупного производства, с одной стороны, а с другой – довольно безучастным в течение долгого времени отношением к этому вопросу государственной власти. Агитаторы и вожаки рабочих, преследующие личные политические цели, пользуются этим лишь для того, чтобы создать рабочее движение».
Более краткой, доказательной и весьма вежливой критики марксизма я не читал ни у кого другого. В ней еще один дополнительный штрих к характеристике многоплановой натуры Витте. Он был созидатель, и потому его подходы к жизни коренным образом отличались от таковых большинства революционеров, природно настроенных на прямо противоположный созиданию акт разрушения.
Что же мы взяли на вооружение из этих достаточно четких и однозначно убедительных виттевских установок? Да ничего, разве лишь признали его лозунг о частной собственности и обратили свой взор на потребление. Признали, но не как проповедуемые Витте «средство к возбуждению большей энергии труда» и стимул к «хозяйственной деятельности», а как варварский способ обогащения, полударовой дележ (присвоение) общенародной собственности и нахальную демонстрацию той самой роскоши служебных апартаментов, лимузинов и своих особняков.
А ведь все выше приведенное из виттевских изречений может, и должно бы, стать буквально национальной идеей, которую все ищут и о которой столь много говорят. Разве не главное сейчас для нас: и опора на собственные силы; и восстановление промышленной и другой самостоятельности; и жесточайший протекционизм; и разумное расходование средств не на роскошь, а на хозяйство, на инвестиции; и гордость за все отечественное и всяческая пропаганда последнего; и стремление купить свое, а не чужое, даже если оно несколько может и хуже последнего; и желание производительно трудиться и сделать свое лучше чужого; и подъем просвещенности чиновничьего аппарата; и, наконец, установление социальной справедливости, обязательное уменьшение имущественного разрыва между бедными и богатыми, дабы не появились новые марксы со своими последователями и не учинили нам еще одну революцию.
Что к сему можно было бы добавить? Лишь одно. Всемерную заботу о культуре народа. Хотя у Витте кое-что есть и на данную тему.
Два разных полюса жизни людей, одинаково одаренных природой, но ориентированных по какой-либо причине на несовместимые деяния. Программа настроя работы мозга, порой обязанная ничтожной случайности, – вот что определяет движение человека по жизни.
Однако будем объективны. И в пределах жизни одной конкретной личности мы можем наблюдать досадные отклонения от некоей принятой нами ее наиболее определяющей характеристики. Не исключение здесь и Витте.
То, что было написано о нем выше, относилось ко времени, когда он занимался живым делом, был здоров, востребован, стоял у руля управления и работал по 16 часов в сутки. Но стоило ему оказаться не у дел, в возрасте тех, наделенных хворями, кого он совсем недавно относил к «старцам», как наш герой мгновенно превратился в брюзжащего человека с непомерной гротесковой влюбленностью в собственную персону и весьма порой предвзятым, даже озлобленным, отношением чуть не ко всем остальным.
В своих мемуарах он представляет нам себя «громадного ума, громадного таланта, исполненного решительности и твердости» государственным деятелем, всю жизнь лично все предвидевшим, делавшим абсолютно все правильно, говорившим и писавшим все уместно, остро и точно. Его окружающих же, наоборот, как людей, хотя и весьма вроде «положительных, умных, грамотных, образованных, милых, добрых, порядочных», но… обладающих, к сожалению, теми или иными весьма нелицеприятными отрицательными качествами. То есть людей одновременно «посредственных, малообразованных, бездеятельных, слабых, беспринципных, аморальных, заурядных, бессердечных» и т.п., во всевозможных при этом звучных сочетаниях определений из первого и второго наборов, а потому, в целом, надо понимать, малодостойных, не способных к серьезному делу, постоянно ошибавшихся и допускавших разные пошлости или глупости. Такое вот чисто виттевское изобретение интеллигентной принизительной характеристики человека. Даже Столыпин наделен у Витте сплошными, подобного духа, весьма нелестными саркастическими эпитетами. Исключением оказались лишь Александр III, которого он любил, как любой молодой человек своего первого наставника, и при котором началось его становление. Да разве еще две-три, видимо, в глазах Витте, истинно талантливых особы.
Слаб человек, даже такой уникальный, как Витте! Вместе с тем ему трудно уйти полностью от своей заданной природой натуры. Здесь, в мемуарах, это четко просматривается. И как только автор переходит от дворцово-дворянских душевно-эпитетных характеристик к серьезной социальной конкретике, мы вновь ощущаем виттевский стиль, его нестандартность, оригинальность, его особую методологию мышления, отмеченное стремление к всестороннему анализу событий и объективности. Может не всегда удачно и убедительно, но с явно проявляемым стремлением быть таковым. В том числе, в упомянутых своих необычных, порой взаимоисключающих, оценках людей.
Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев. Автор «революционной перестройки», приведшей к тому, что он стал последним наделенным верховной властью представителем последних лет существования Советского Союза. Человек, полностью порожденный разлагающейся системой государственного устройства и впитавший в себя все самые худшие стороны тоталитаризма, дополнительно изуродованного марксистской идеологией. Он один из трех последних наших правителей, оказавшихся у власти в результате чисто дворцовых «интеллигентных» интриг, когда к ней (власти) обычно приходят люди весьма слабые и малоспособные к государственному управлению, да к тому же еще и в относительно пожилом возрасте.
Но Горбачев – особый случай в истории, где кроме внешних обстоятельств и, как всегда на подобных полях борьбы за высшую власть, стечения всяких случайностей, в немалой степени сыграли определенную роль его личные природные качества. Обладая для назначенного судьбой определенными способностями (устремленностью, хорошей памятью, видимо, еще кое-чем для сего необходимым), он был рабом, в худшем смысле этого слова, рабом всяких, принятых в данный конкретный временной момент условностей. Нерешительным и трусливым до невозможности человеком, нижайше преклоненным лизоблюдом перед начальством и сверх высокомерным по отношению к подчиненным – ко всем, кто стоял за ним в очереди до власти. Чуть не единственного, в прошлом советского государства, места, где действовал достаточно мощно закон «социалистического соревнования». К нему, похоже, Горбачев был подготовлен преотлично теоретически, а практически закрепил свои природные данные, будучи первым секретарем Ставропольского края и организовывая отдых высокопоставленному партийному чиновничеству. Можно вообразить, как вертелся этот деятель тогда, разрабатывая со своей незабвенной Раисой Максимовной программы встреч, досуга, одариваний и проводов всех этих московских гостей.
Судя по описаниям и рассказам хорошо его знавших, да и по многому лично каждым виденному и слышанному, трудно сыскать человека, наделенного столь большим числом непривлекательных поведенческих характеристик. В моей оценке у него не было и нет ничего из того набора, чем притягивал к себе простых людей, например, тот же Наполеон (имею в виду, естественно, лишь только одни общечеловеческие их качества).
Горбачев, встав у власти, оказался чистейшей воды болтуном. Началом тому явилось его самое первое «программное» выступление, которое он прожектерски преподнес как некое открытие, способное перевернуть наш грешный мир и немедля решить все проблемы. Помните. Завтра глупых постановлений нет, решения только ответственные. Преступники наказаны и сидят в тюрьме. Честные, вооруженные знаниями, опытом и умением, засучив рукава ринутся в бой за изобилие и справедливость. Так им декламировалось. А что получилось? Получилось то, что он стал чуть не каждый божий день менять свои взгляды: сегодня хвататься за одно, а завтра за другое, обещать, почти ничего не выполнять и плыть по стихии событий.
Объявив себя главным перестройщиком, он оказался единственным человеком, который на протяжении всех лет перестройки с удивительным упрямством фактически отстаивал статус-кво и произносил «да» самый последний. Все его выступления – это смесь лжи, пустых лозунгов, демагогии и самокрасования. Горбачев непревзойденный представитель той когорты, что с величайшим упоением выдает желаемое за действительное. Не исключаю, что он истинно верил и продолжает верить во все им рекламируемое, но нас ведь, повторюсь, интересуют лишь конечные результаты деятельности, а не само движение к ним и тем более слова о них.
Только разлагающаяся система могла поставить во главе огромного государства ничем для дела не одаренного человека, который даже сегодня, после всего происшедшего, не может (не хочет) понять, что его «успех» в устроенной им клоунаде и что организовывают встречи и бегают на него посмотреть и послушать из чисто стадного обывательского любопытства либо из желания лишний раз убедиться в правильности давно установленной меры его желаний и возможностей.
Горбачев ушел со своего поста так и не догадавшись сказать «простите» народу, управлять которым взялся, не имея на то никаких способностей, а следовательно, и прав. Ушел после известного переворота, главным идеологом которого фактически являлся, и отличался от бунтовщиков тем, что три дня молчал, в то время как его приверженцы говорили и действовали в соответствии с проводимой им (на словах, по крайней мере) политикой, не навязанной, активно им защищаемой и пропагандируемой. Интересно, что предпринял бы он при ином завершении переворота? Помните, как у Цвейга королева Елизавета не желала казни Марии Стюарт?
«Высокая» оценка его деятельности со стороны хитрых политиков западного мира – элементарная дань за развал нашей страны, освобождение Восточной Европы и даром доставшегося повышения ими собственного потенциала. И если кто-то из наших продолжает в сем поддакивать Западу, так это есть чисто российское преклонение перед авторитетной особой вне понимания истинной подоплеки ее поступков и суждений, вне понимания того, что Горбачев только и делал, что ничего не делал, а просто появился на большой сцене «удачно» в момент саморазложения системы, объективно не способной к нормальному эволюционному развитию.
Удивляет ли меня Горбачев? Нет. Таких говорунов, даже умеющих работать, но не способных добиваться конечных полезных результатов, всегда было много. И не то удивительно, что они есть, а то, что есть люди, которые им верят и активно помогают в их бесполезном труде. Удивляют люди, которые сегодня, чувствуется, пишут о нем вполне объективно чуть ли не как о ничтожестве, а вчера с ним непосредственно работали, выполняли его, а часто и Раисы Максимовны, глупейшие указания, слушали внимательно такого же сорта рассуждения. А съездовские спектакли с его уморительными выступлениями и комедийными решениями? Не сталинские времена, можно было бы встать всем и покинуть зал.
Вот когда так станет, когда дорастем – не будет и горбачевых. Вернее, они будут… только на им вполне соответствующих постах.
P.S. Недавно, как бы в подтверждение приведенному, услышал, что Горбачев собирается стать телеведущим. Первая мысль: вот это его амплуа. По некоторому размышлению, – скорее всего и тут будет больше красивой болтовни, чем пользы. Опять побегут смотреть на него, дабы поскабрезничать. Он же, как всегда, будет полагать: от его привлекательности, от истинного к нему интереса. Тем более что найдутся ведь и поддакивающие либо от души, либо из скромности: ведь как-никак, бывший Президент.
Рыжков
Николай Иванович Рыжков – казалось бы, полная противоположность Горбачеву. Человек, который до того, как стать премьером страны, прошел нормальный путь становления: поработал мастером, начальником цеха, главным сварщиком и главным инженером. Стал директором Уралмаша, работал в Минтяжмаше и Госплане, но вот перед премьерством попал в ЦК КПСС и в итоге, в плане конечных результатов, закончил тем же, что и Горбачев.
Чисто по-человечески очень обидно: полжизни он занимался делом, неплохо занимался, и оказался абсолютно, можно считать, не приспособленным к нестандартным преобразованиям в силу воспитанных советско-партийной системой ограниченности и неспособности к анализу реальной действительности и принятию по-настоящему принципиальных решений.
Основание для таких выводов – не только его практические дела на посту премьера, которые в той или иной степени можно объяснить еще внешними обстоятельствами, но и его книга «Десять лет великих потрясений», так сказать, с собственной оценкой событий, тогда происходивших.
Как видно из этой книги, написанной отнюдь не по обязывающим обстоятельствам, а по велению души и при полной свободе, Рыжков осознал только внешнюю атрибутику социализма вне причинно-следственных им порожденных связей. Он совершенно, если верить написанному, не понял, что «великие» потрясения и всё с ними связанное, в том числе появление на государственной управляющей арене людей, ему подобных, – есть прямой результат 70-летней нашей истории.
В 1986 году я с группой конструкторов был приглашен на совещание к Рыжкову. По какой-то причине совещание задержалось, и мы, в окружении человек двадцати самых главных министров, имеющих отношение к машиностроению, проторчали в «предбаннике» премьера целый час. Министры вели себя, как школьники при опоздании на урок учителя. Основной темой их разговоров между собой было: кому и как удалось отвертеться от какого-либо поручения. Лучше – переложить его на другие плечи. Своеобразный пир во время чумы. Наши беды, с которыми мы напросились к Рыжкову и куда они приглашались вместе с нами, были им до лампочки.
Рыжков не понял, что общество, его активная составляющая, подготовленная для рваческих действий советской системой (а не сошедшие со сцены пенсионеры), не хотело и не желало жить в рамках системы, «разумно» организованной по его варианту. Ему, обществу, нужен был хаос, гайдаровский и чубайсовский хозяйственный идиотизм как раз для того, для чего оно было так превосходно подготовлено, – для быстрой и легкой «законной» реализации своих шкурнических интересов. Но это Рыжкову можно было бы еще простить.
Не понял он главного, что именно наложением на главный принцип социалистической системы – ее общественной собственности – придуманных властью, т.е. лично Рыжковым и Горбачевым (задолго до прихода Ельцина), разного рода искусственных послаблений, моментально реализованных «обществом» в виде бесчисленного числа посреднических фирм, и было фактически инспирировано то самое «законное» накопление первоначального капитала. Дальше вполне логично должен был последовать абсолютно неизбежно полный переход к свободному рынку – капитализму. Продолжать непомерно затянувшуюся прежней властью игру «в песочек» было просто неразумно.
Так что развалили всё (как не только бывший премьер, но и многие другие еще продолжают считать) не Горбачев и не Ельцин. Они лишь слегка ускорили развитие событий. В стратегическом плане развал начался с Октябрьской революции, с утопических желаний ее вождей силовым воздействием изменить природу общества и естественный ход истории. То, что с нами произошло, то, чем мы возмущаемся сегодня, – это ее результаты. Идеи прекрасны, но не надо их путать со средствами движения к целям. Они оказались абсолютно негодными, и не потому, что их осуществляли «плохие» люди. Таковы объективные законы жизни. Ошибку легко не допустить. Так же, как и ее совершить. Но тяжело, а то и невозможно исправить.
Агонию системы, наверное, можно было продлить, если она позволяла бы одному из главных лиц в государстве заниматься не мыльным порошком, а принятием действительно нужных и быстрых мер по ее спасению. Ну, например, учесть высказанные на упомянутом совещании наши предложения и призвать расплодившихся до невозможного числа всех бюрократов к порядку и сократить раз в пять-десять их дурацкую контролерскую деятельность, мешающую нормально жить и работать. По тем же причинам прикрыть преступную часть аналогичных, доказано вредных, деяний Госстандарта и наполовину его разогнать. Оперативно прореагировать на товарную ситуацию и, как Гайдар, решительно и нахально, но разумно, не на соль и минтай, а коммерческие цены – на весь покупаемый государством за газ и нефть дефицит. То же – на собственные деликатесные продукты и подприлавочные товары. Дифференцированную, в соответствии с реальной ценностью, квартплату. Короче, нормальную для бездефицитности цену на то, чем питалось и пользовалось высокое московское и прочее чиновничество.
Да мало ли что можно было сделать еще, хотя бы и для временного выживания? Не сделано. И, по всем представлениям, не могло быть сделано. А потому незачем сейчас после драки плакаться и критиковать пересекших дорогу. Свято место никогда пустым не оставалось. К тому же, о людях, мечтающих оставить след в истории, судят не по ими сказанному и написанному, а по их, как я постоянно подчеркиваю, труда конкретным результатам.
В книге Рыжкова много критики. Я ее с удовольствием прочитал, подтвердив тем самым еще раз свою собственную оценку давно мной осознанного безобразия тех лет нашей жизни. Все же, что претендует в ней на позитив, ошибочно или вовсе никчемно. Как и у Горбачева, желаемое выдается за действительность. Я не привожу здесь доказательств сказанному. Они в реалиях случившегося. Переходные этапы тем «хороши», что они намертво убивают любую начальническую словесную шелуху. Хотелось, сильно хотелось… Но не получилось.
А почему не получилось? Надо вспомнить довольно пространные, но весьма поучительные рассуждения Л. Толстого из его романа «Война и Мир» на тему, как и кем пишется история и какими на самом деле силами она определяется. В истории кроме сил, осязаемых нашим ограниченным и достаточно тенденциозным воображением, действуют еще некие «необъяснимые» силы. Они и делают историю той, какой ей хочется стать, вопреки желаниям даже самых великих людей. Разумное управление большими массами людей заключается не в конкретных распоряжениях и указаниях, а только в очень легком подталкивании людей в нужном направлении, более, – еще в одной неуловимой силе, называемой «духом войска» – духом народа.
Рыжков пишет об абалкинских проектах перехода к рынку, как предложениях, составленных с привлечением «серьезных научных сил», с учетом «альтернативных» вариантов, «математического анализа всех плюсов и минусов», даже «моделирования предстоящих нововведений». А затем противопоставляет их (предложения), с помощью приведенных «мощных» аргументов, аналогичным проектам Явлинского, хотя уже была ясна обоих абсолютная ограниченность. Ни тот, ни другой и все прочие прожекты «великих» экономистов, вроде того же, весьма активного в те времена, Бунича, не учитывали главного, – толстовского понимания общей ситуации, духа народа и устремленности «общества» совсем к иному, – к тому, о чем было сказано выше. К хаосу, неизбежному при любой революции, когда, по Макиавелли, «государства из состояния упорядоченности переходят к беспорядку». Математический анализ, моделирование! Детский сад.
Надо бы знать Рыжкову, что у нас не было тогда в стране экономической науки, – у нас была марксистско-ленинская политэкономия. Может, в чем-то «перестройка» обязана именно данному обстоятельству. В других местах у меня об этом написано достаточно и, мне кажется, вполне доказательно. А впрочем, оно очевидно и не требует доказательств.
И последнее, чисто общее замечание о книге. В ней недопустимо много личностного, порой даже несколько слезливого, восприятия действительности, а потому масса очевидных вещей, событий представляются нам как некие чуть ли не открытия, а негативные оценки отдельных стоящих у власти людей в доброй их половине могут быть однозначно отнесены к самому автору.
Горбачев и Рыжков – современный феномен на переходном этапе жизни. Один – безбожный лжец, признающий в любом деле только свое в нем Я, и второй – честно желавший сделать нужное и полезное для людей и страны. Совсем разные по природе и характеру люди. Одинаковые конечные результаты их служения на государственном поприще, одинаково написанные ими книги, где чуть не все перевернуто с ног на голову.
Ельцин
Борис Николаевич Ельцин – умный и хитрый политик, одержимый, похоже, чуть не с детского возраста жаждой власти, причем власти не для того, чтобы что-то сделать, а в самом худшем ее изначальном проявлении – как средства, дающего неограниченную возможность повелевать и решать. Усугубленная деревенским происхождением и приниженной бедностью детских лет, она вылилась дополнительно еще в болезненные формы страсти к внешней дешевой эффектности, барским замашкам, иным чисто сатраповским выходкам, о которых поведал нам его бывший главный телохранитель.
В силу этих наиболее «сильных» черт характера он очарованно-красиво вошел во власть и до омерзения противно ее реализовал. Построил все на самых худших вариантах тронного «благополучия»: бессовестном грабеже и разорении страны, обнищании подавляющей части населения, придворных интригах и бесконечных кадровых перестановках.
Его мужицко-крестьянская хитрость подсознательно определила такой наиболее «верный» путь движения к поставленной цели и удержания достигнутого в посттоталитарный период. Правда, будем объективны, этому способствовала и подготовленная тем же режимом огромная армия беспринципных, лишенных чести и достоинства людей, которая восприняла варварский способ «строительства» нового государства с величайшим (как в свое время при Ленине) удовольствием и большой личной заинтересованностью.
В целом же своей исторической миссией он еще раз безупречно подтвердил давно осмысленные законы движения к власти и достигаемые при этом результаты.
Исходную причину революции – как прямого следствия ожирения, глупости, ограниченности предшествующего правления и отсюда его неумения организовать хотя бы самое малое сопротивление тем, кто это правление собирается смести.



