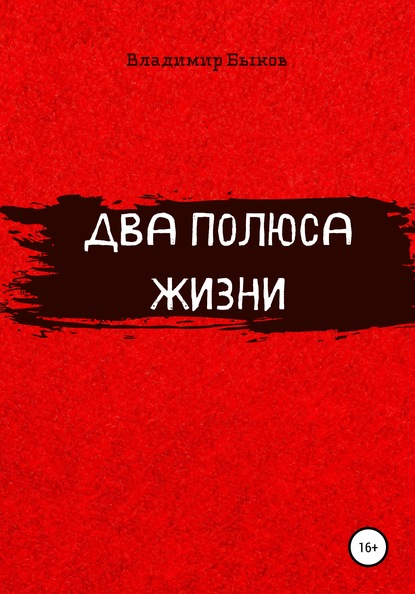 Полная версия
Полная версияДва полюса
Дальше – борьба: за создание милого ему мощного национального банка, как важнейшего института для кредитования отечественных товаропроизводителей; за индустриальное развитие страны; за активнейшую при этом помощь со стороны правительства; за мощную протекционистскую политику. «Важно, – снова убеждал он, – пробудить доверие осторожных и бережливых капиталистов. А для этого нужно заставить их видеть в каждом новом, и потому рискованном, начинании гарантию поддержки государства, которая должна быть достаточной для преодоления препятствий, связанных с любыми первыми экспериментами». Это не брошенные на ветер слова. Все подкреплялось совершенно конкретными действиями, четко соответствующими им пропагандируемому и защищаемому в многочисленных по-прежнему статьях и выступлениях.
Какое мощное подтверждение уникальной талантливости, практичности и целеустремленности человека дела! Гамильтон – по оценке Джефферсона – подлинный колосс, он один стоил целого войска. Он – живой пример политика, у которого слова редко расходились с делами, а желания, кажется, полностью соответствовали достигнутому. Все наши современные политические вожди и государственные деятели и в подметки не годятся этому славному борцу за правду жизни и непревзойденному пропагандисту и полемисту, жившему 200 лет назад. Вот откуда гордость американской нации за свою страну. Вот откуда величие современной Америки. Вот чем можно объяснить позорное состояние современной России.
Гамильтон был поэтом в политике и погиб как поэт – на дуэли. До последнего часа он сохранил верность своей натуре и даже в такой трагедийной обстановке не преминул написать очередное, теперь последнее, назидание. «Мои религиозные и моральные принципы решительно против дуэлей. Вынужденное пролитие крови в частном поединке причиняет мне боль… Способность быть полезным в будущем, противясь злу или совершая добро, окажется неотделимой от подчинения общественным предрассудкам, и в частности – этому».
В 1788 году Нью-Йорк устроил грандиозную манифестацию в честь Гамильтона и Конституции, спустя 16 лет – с невиданными почестями его хоронил.
После смерти высокие «религиозные и моральные принципы» Гамильтона подтвердились еще раз. Оказалось, что он умер в нищете и все его имущество описано за долги. Почести, отданные американским народом Гамильтону, были заслуженными вне каких-либо исключений.
Наполеон
Наполеон Бонапарт. Есть нечто общее в исходных биографиях Наполеона и Гамильтона. Природный ум, талантливость, самобытность, высочайшая самоуверенность у обоих, чуть не с детского возраста, – все, что нужно для проявления своей натуры. И… совершенно разное движение по жизни, разная известность, продиктованные, кажется, только чисто внешними привходящими обстоятельствами.
Первый – признанный всем миром «Великим», одержавший массу непревзойденных побед в военных сражениях и отправивший на тот свет миллионы человеческих жизней; второй – забытый большинством, вкусивший от войны малодостойную адъютантскую службу, одну случайную атаку во главе батальона солдат и едва ли кого убивший. Вместе с тем практически одинаковые по действительной полезности их конечные результаты жизни: создание разумной государственности – одним в Америке, другим во Франции.
Так в чем же сила Наполеона, что сделала его чуть не вторым, после Цезаря, великим человеком в нашей истории; заставила написать о нем сотни, если не тысячи, биографий, воспоминаний, романов и прочих трудов; разделила лагерь его современников на массу очарованных его гениальностью и столь же великое число непримиримых врагов, видевших в нем преступника, убийцу и дьявола, хотя и не отрицавших при этом многих достойных внимания сторон его человеческой души?
Врожденная страсть к безграничной личной власти, почти мгновенно (после ставшей близкой к реальности) преобразованной в Наполеоновой голове в полусумасшедшую идею о мировом господстве. И преотлично с ней сопрягаемое лояльно-объективное, с высоты его положения, отношение к своему окружению, естественного, в принципе, если в разумных размерах, свойства любого умного и благородного человека, а потому привлекательного, ценимого часто даже более истинной талантливости. Вот то, что, в сочетании с отмеченным выше, послужило основанием стать ему в глазах толпы великим.
Толпа, ее не знающая границ жажда к вере, подчиненность авторитетам и неуемная способность восхищаться чисто внешними эффектами, вне какой-либо связи с их полезностью, более чем все остальное возводит наделенную болезненной исключительностью личность в сан великих. Для здорового человека сопровождающий ее движение шум не производит особого впечатления. Исключая разве неприятный осадок от самого шума, вроде, например, состоявшегося в нашей стране по поводу двухсотлетия Пушкина, которого очередные шумопроизводящие старались превратить в очередного бога.
Человек раб своей сущности, а она есть следствие его возможностей, данных от природы и других внешних, может быть случайных, обстоятельств жизни: воспитания, окружения, эпохи. Он знает, что смертен, прекрасно понимает бессмысленность, ничтожность своих страстей и деяний в океане вечности, но тем не менее действует. Почему? В этом частном «почему?» и содержится ответ: природная тяга к деятельности заставляет индивида эксплуатировать способности и в зависимости от масштабности последних буквально навязывать окружению свое Я во всем его прекрасном и преступном многообразии и, особенно, в части устремленности к власти.
Власть проявляет себя как мощное, определяющее борьбу живого свойство человеческой натуры. Власть во всем. От желания стать во главе государства или шайки бандитов – до стремления быть первым в той или иной области жизни и знания, приказывать и затверждать, заставлять себя слушать и восхищаться. Даже заумнейший спор между Сократом и Калликлом о правде жизни – обычное упражнение ума – есть своеобразная форма власти над людьми.
Способы обретения власти не имеют границ, но непременный ее атрибут – ложь, в лучшем случае недоговоренность, сокрытие полной информации. Власть и демагогия – две страсти человеческой природы, неразлучно связанные между собой. Желание, характер, природные наклонности человека лишь толчок к власти. Движение к ней как бы предопределено: способность к игре и слову здесь будто только для того и дана человеку, чтобы иметь возможность представить свету в придуманно-приглядном виде то, чего он добивается.
Власть удесятеряет силы и возможности человека, придает ему уверенность в себе, поднимает его в глазах окружающих, во всевозрастающем масштабе способствует его своеобразному обожествлению и тем большему, чем больше власть. Впрочем, действия простых людей и мотивы их точно таковы, как и поступки людей, «творящих» историю. Меняется только оркестровка и размеры оркестра. Человек играет самого себя – это ему ничего не стоит.
Наполеон по своей властной натуре был к тому же игрок и в прямом смысле этого слова. Игрок быстрого экспромта и потому оказался наиболее приспособленным к скоротечным, прежде всего и прославившим его, победоносным военным сражениям, которые он с наглой самоуверенностью называл без какого-либо исключения «честными и вынужденными».
Начинаясь фактически по амбициозным желаниям одержимых, они вовлекают в свою круговерть огромные массы людей. Сначала, явно помимо их настроя, с чувством боязни, страха и апатии. Однако через некоторое время под воздействием крови и смерти, чисто природных качеств всего живого, люди входят в раж и с ненавистью бросаются на себе подобных, и чем больше и скорее производится первого, тем сильнее проявляется второе. Люди забывают о причинах войны, о своем недавнем безразличии к ней и своем осуждении ее зачинщиков. Война становится подвигом. О ней слагают песни, ее славят, отмечают, не отдавая себе отчета в том, что все сопровождающие ее «благородные» поступки, как самого признанного Гения, так и многих других участников, ничто в сравнении с организованными ими злодеяниями и смертью их собратьев.
Интуитивно или осознанно (нас не очень интересует) Наполеон отлично усвоил эту психологическую норму человеческого восприятия войны. Придуманная им (и припудренная императорской заботой о своих подопечных) предваряющая сражение пропаганда героики войны и солдатской победной славы, а затем всемернейшее ускорение сражения и быстрейший вывод на состояние осязаемой солдатской массой бойни – вот формула его победных шествий по Европе. Как только была нарушена одна из составляющих данной формулы, так Наполеон моментально потерпел поражение.
Великолепный тактик, он оказался никуда негодным стратегом ни в плане оценки конкретных военных возможностей своих противников, ни в плане общего понимания хода истории. Его глобальные видения мира и принципов его построения, оценка интересов и желаний других людей, наделенных, может, и меньшими способностями, но ничуть не меньшими, чем у него, амбициями, представляются нам настолько же наивными, как и таковые самого последнего солдата гвардии. Его многочисленные и многословные оправдательные объяснения своих поступков и действий тенденциозны, однонаправленны и не выдерживают никакой критики. На фоне вполне эффектных действий он оказался самым элементарным утопистом. «После стольких лет смятений, жертв и крови Франция ничего не получила, кроме славы», – сказал в свое время русский император Александр І. «Ничего, кроме славы», – таков итог наполеоновских сражений.
Аналогично он проявил себя на гражданском поприще. И тут он полагался более всего на личное гипнотическое величие, не отдавая отчета в реальной долговременной действенности своих практических шагов.
Так в чем же настоящая полезность деяний этого человека? В его Гражданском кодексе, плоде действительно незаурядного ума и подлинного прозрения. Она подтверждается в конечном итоге им самим. «Моя слава не в том, что выиграл 60 битв. Если что и будет жить вечно, так это мой Гражданский кодекс». Хотя для справедливости следует упомянуть, что к тому времени была принята не менее сильная американская конституция.
Что еще? Чисто наполеоновское. Это его, как бы вступающее в противоречие с мощным, им придуманным для себя, историческим предназначением, необычайно широкое, на протяжении всей жизни до последнего дня, проявление обычной житейской нормы – общепризнанной (хотя, скорее, и здесь на уровне элементарной игры) человечности и заботы о людях. Причем вне какой-либо связи с их имущественным и социальным положением, вне каких-либо иных обстоятельств, места и времени. Это его производившая сильное впечатление феноменальная память, которой он умело пользовался, с собственным умилением и гордостью всячески подчеркивал и поддерживал в глазах окружения. Это его в состоянии экстаза столь же впечатлительная личная храбрость, артистически им разыгрываемая в самых различных, иной раз почти внешне безвыходных ситуациях.
Наконец, главное. Он был «честным» монархом: не лгал напропалую, как большинство; честно, если так можно сказать, сражался и не держал кинжал за пазухой; не признавал демократию с ее никчемной болтовней; боялся неуправляемого народного бунта; вершил справедливый суд – короче, делал и поступал видимо так, как нравится простому воину и прочему, работящему, люду. Качества, которые отмечал даже Л. Толстой, несмотря на явное более чем негативное к нему отношение.
Известность Наполеона отсюда – прежде всего в солдатских рассказах, в воспоминаниях его маршалов, генералов и слуг. Тем паче что больше всего на человека как раз действуют и оставляют след в памяти акты пожара, войны и смерти, особо, когда они инспирируются, к тому еще, явно незаурядными личностями.
По большому же счету, молодой Наполеон был выдвинут на арену (из вполне возможной абсолютной неизвестности) революционной ситуацией и многими сопутствующими случайностями, порожденными, как всегда, непомерной глупостью предшествующей власти, ее инерционностью, жадностью и самым элементарным ожирением. Всем последним, а прежде всего лишенным сомнений почти юношеским возрастом, когда лучшие творческие силы, по Ницше, еще не «атрофировались от безделья», в немалой степени и определялись великие его победы. Как только Наполеон погрузнел, обрел дворцовый лоск и сам оброс житейским жирком всяческих условностей и дворцовых императорских гадостей, противный ему старый мир, наоборот, проснувшись от спячки, чуть-чуть подумал, дал верную оценку ситуации и сделал ее той, какой она и должна была быть по всем законам мироздания. От величайших потуг гения осталось ровно столько, сколько должно было остаться в большой истории. Гигантский энергетический потенциал принес ему на самом деле лишь славу.
Но ведь она, известно, в немалой степени порождена разными творящими чаще всего из одних чисто меркантильных побуждений. В биографии Наполеона материала для подобного сочинительства было более чем достаточно. Феномен! Люди познают сложнейшие науки, а простейшие житейские истины – нет, или с трудом, достойным удивления. Склонны восхищаться не полезностью сделанного, а его внешними атрибутами, затраченными усилиями, их продолжительностью, размерами, весом и прочими характеристиками, легко действующими на человека, когда ему не хочется думать.
Масса вещей восхищает массу людей благодаря моде и рекламе. В жизнеописаниях Наполеона такой информации, проистекающей от умиленного сюсюканья, унавоженного авторским желанием быть лично причастным к Великому, а потому безмерно приукрашенной, – много. Есть не меньше и другого, – уже от ненависти. Маниакальная самоуверенность и доходящее до наглости нахальство (вроде не виданной по масштабу раздачи им европейских престолов своим многочисленным корсиканским родственникам), страсть к роскоши и помпезности, развратность.
Впрочем, в жизни все относительно. Хорошее уживается с плохим, красивое с противным, добро со злом, верное и правильное с ошибочным, постоянное и неизменное со случайным. Подтверждение тому – два живших почти в одно время одержимых властью и славой антипода. Гамильтон и Наполеон.
Витте
Если исходить из того, что творилось в нашей стране в 60-е, последующие и, особенно, в перестроечные и постперестроечные годы, то можно без всякой натяжки считать Сергея Юльевича Витте просто гениальным руководителем, организатором и государственным деятелем. Человек изначально богато одаренный природой, он был всесторонне образован, обладал исключительной работоспособностью, неукротимой энергией и настойчивостью, огромными бойцовскими качествами, дипломатическими способностями, умением общаться с людьми и обращать их в свою веру.
Он сделал рубль крепчайшей мировой валютой, построил транссибирскую магистраль, ввел в стране винную монополию, поднял промышленно-торговый потенциал страны, выполнил много чисто дипломатических поручений, в том числе заключил мирный договор с Японией, против войны, с которой больше всех боролся. В силу особой своей привлекательности, ума и нестандартности, Витте воспитал целое поколение прямых и косвенных сподвижников, которые, став на рабочих местах управления страной при советской власти, в огромной степени определили ее мощное становление в первые три десятка лет. Если бы не было этой армии превосходно мыслящих и обладавших высокой самостоятельностью людей, воспитанных в его времена, то никакие Ленин и Сталин ничего бы не сотворили.
Рабочую систему социалистического государства, в реальной конкретике ничего общего не имеющего с предначертаниями Маркса, создавала именно эта плеяда первопроходцев. Они не были политиками, возможно, понимали и тогда всю стратегическую утопичность коммунизма на данном этапе человечества, но не могли, по своему характеру и воспитанию, не быть прагматиками и не творить в любой, даже в самой неподходящей для того обстановке.
По сути дела то же самое, в принципе, делал и Витте. Тогдашняя система, кажется, совершенно не соответствовала его прогрессивным здравого смысла взглядам на мир. Всю свою жизнь он находился в состоянии чего-то доказывающего и отстаивающего перед царем, его окружением и чиновничьим аппаратом страны.
Позволим себе подтвердить сказанное рядом выдержек из написанного Витте, как раз из того, что нашими более поздними руководителями не зналось, не делалось либо было предано забвению.
«Большая или меньшая способность государства вести правильно свои дела зависит от степени просвещенности и добросовестности его исполнительных органов. Чем более чиновничество отвечает названным качествам, тем более широкая область промышленного дела открывается государству.
Конечная цель всякой хозяйственной деятельности – потребление. Потребности людей не ограничены в числе в том смысле, что с развитием цивилизации возникают все новые и новые и не предвидится конца их нарастанию. Именно они и составляют первоначальный стимул и конечную цель хозяйственной деятельности людей.
Накопление богатств в стране совершается тем успешнее, чем она ближе к такому, при котором не затрачивается лишних сил на удовлетворение какой-либо потребности. Труд может быть производительным и непроизводительным. Лишь немногие виды его могут быть признаны безусловно бесполезными, но непроизводительною является и та часть полезного труда, которая для достижения данной цели оказывается излишней.
В числе условий, задерживающих нормальное развитие, первое место принадлежит милитаризму. Повторяющиеся беспрерывно жертвы, налагаемые милитаризмом на народное хозяйство, медленно подтачивают экономическую жизнь современных государств.
Всякая страна должна стремиться разнообразить свое производство и вводить у себя все новые и новые отрасли, раз они только не являются не совместимыми с климатом и естественными ее богатствами. Отсюда, страна, устанавливающая протекционизм, хотя и наносит ущерб разным потребителям, но зато способствует становлению собственной промышленности. Свобода международного обмена есть идеал, к которому надо стремиться через упорный труд и возможно разнообразное развитие своих собственных производительных сил.
В такой стране, как Россия, задача торговой политики сводится к настойчивому и последовательному протекционному режиму. За плодотворность ее ручаются и даровитость, и трудолюбие нашего населения, и неисчерпаемые богатства страны, обеспечивающие полную возможность в самых выгодных условиях вырабатывать почти все предметы потребления. К свободе торговли мы должны идти суровым протекционным режимом.
Право собственности есть необходимое условие развития личности и свободы человека и большей успешности его хозяйственной деятельности. Право собственности служит лучшим средством к возбуждению большей энергии труда, а большая производительность труда отдельных лиц увеличивает благосостояние всего общества. У культурных и богатых народов охрана прав собственности составляет основную задачу государственной власти».
Весьма поучительны рассуждения Витте о «роскоши» и «тратах». Вот что он писал об этих категориях из области человеческих страстей (привожу с некоторыми сокращениями).
«Трудно сказать, какому чувству более удовлетворяет роскошь – чувству ли наслаждения ее предметами или чувству тщеславия. Стремление, побуждаемое первым, довольно скоро находит удовлетворение; вторым, чувством тщеславия – ненасытимо. Роскошь вызывает против себя осуждение моралистов и многих экономистов. Государственная власть исстари считала борьбу с роскошью одной из своих задач.
Однако опыт, за исключением Спарты, показал, что законы против роскоши мало достигали цели. И потому рядом с осуждением роскоши в литературе высказывались соображения в ее защиту, что она якобы дает людям жить, что деньги, расточаемые на роскошь, попадают в руки купцов, работников и различных производителей. Такое мнение поддерживалось даже такими выдающимися людьми, как Монтескье и Вольтер. Мы сейчас увидим, в чем ошибка этого представления.
Как обычная речь, так и научный язык под словом «трата» понимает расходование денег на покупку предметов и услуг исключительно для личного потребления. Никто не назовет тратой покупку ценных бумаг, земли или дома, закупку товара купцом или выдачу зарплаты. Напротив, израсходование денег на пищу, одежду, помещение, меблировку, прислугу есть трата, которая предполагает уничтожение известного количества из суммы национального богатства. Эта простая очевидная мысль долгое время затемнялась поверхностным взглядом на экономику. Упускалось из виду, что сумма производимых страной предметов зависит от количества труда и капитала, а это такие факторы, умножить которые не в силах наши траты. Уменьшится изготовление предметов роскоши – освободится часть труда и капитала на постройку новой железной дороги».
Далее, в чисто виттевском инженерном духе великолепного аналитика всех за и против, он добавляет: «Правда, перемещение труда и капитала совершается в жизни не так просто… Ввиду этого желательно, чтобы уменьшение потребления предметов роскоши не совершалось разом и в слишком больших размерах». Какой контраст! Наши Горбачев и Рыжков как-то, наплевав на данное перемещение капитала, хотели в два года поднять в два раза аж все машиностроение.
А в части роскоши? Посмотрите, как развращенные современные российские правители, видимо, специально для того, чтобы лучше тем подчеркнуть свою ограниченность, стали не бороться, а самым нахальным образом демонстрировать нам роскошь служебных апартаментов. Я много раз бывал в скромно оформленном здании Союзного Госплана, построенного воспитанниками виттевских времен. Взгляните сейчас на этот дом, занятый Думой, хотя бы на ручки дверей – по телевидению их показывают каждый раз, как только хотят обратить наше внимание на ум и совесть народных избранников. О президентских хоромах не говорю. Витте писал о роскоши за свой счет, теперь правители исполняют «трату» казенных денег.
Когда у нас еще появятся новые Витте? Он подбирал людей только по знаниям, способностям и деловитости. С его появлением моментально менялся стиль работы учреждения. «Ведомство путей сообщения, – вспоминает его современник, – под влиянием первых же шагов нового своего начальника точно помолодело, подтянулось и вдохновилось живым усердием к работе». «Витте страшно ценил в своих сотрудниках самостоятельность во всем и до конца, – писал другой. – Доклады Витте происходили при весьма любопытной обстановке. У докладчика нет с собой ни бумаг, ни карандаша, и вот в течение двух часов докладчик и Витте ходят из угла в угол по кабинету и яростно спорят. При Витте нельзя было отделаться распространенной точкой зрения: министр требовал от подчиненных серьезной и ответственной подготовки по всякому вопросу».
Оперативность и тщательность при подготовке тех или иных решений у него просто изумительны. Только один пример.
27 мая 1898 г. управляющий Морским министерством П. Тыртов на докладной Главного инспектора кораблестроения Н. Кутейникова (по вопросу, поднятому А. Крыловым) «положил резолюцию о необходимости создания высшего кораблестроительного и машиностроительного училища или отдельных факультетов при каком-либо высшем училище». Одновременно приказал «возбудить осенью об этом вопрос сношением с министров финансов, указав при сем на ненормальное в этом отношении такое положение, в устранении которого Министерство финансов заинтересовано не менее Морского министерства».
Тороплюсь прочитать у Крылова далее. Как же и когда разрешился этот вопрос? Нахожу. Только осенью следующего года. Долговато… Но как? Оказывается, за год Витте не только решил и приказал «учредить в ведении Министерства финансов Политехнический институт» (а не какое-то там училище), но и определил его расширенный состав до «четырех отделов: экономического, металлургического, электромеханического и кораблестроительного». Испросил на то «высочайшее, как тогда говорили, соизволение». Приобрел «в 8 верстах от Финляндского вокзала участок земли с сухой песчаной почвой, для сооружения на нем главного здания института, общежития для студентов и дома с квартирами для профессоров». Назначил «директором института князя А.Г. Гагарина» и образовал для дальнейших действий «две комиссии: учебную под председательством генерала Петрова и строительную под председательством Ковалевского». От такой виттевской тщательности, четкости и полноты решения у меня, как от хорошей музыки, поднялись на теле волосы.
Схватил том БСЭ и нашел, что Ленинградский политехнический институт создан в 1902 г. в составе тех самых, назначенных Витте, четырех факультетов. Но что я увидел там еще? Оказалось, только в Ленинграде при деспоте Сталине с 1930 по 1940 г. было открыто… более 20 институтов, в том числе в одном 1930-м году – чуть ли не целый их десяток!
Еще одна характерная черта Витте, взаимосвязанная с предыдущей, но несколько иного плана – это рассмотрение любой проблемы в аналитическом аспекте, во всех ее ракурсах, со всех возможных сторон. Так он штудирует и разъясняет нам теорию Маркса, которую в душе считает, естественно, совершенно пустой.



