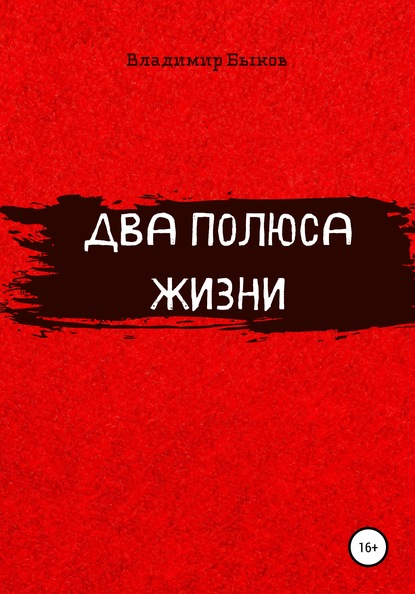 Полная версия
Полная версияДва полюса
«Эксплуатация, – пишет Ницше, – не является принадлежностью испорченного или несовершенного и примитивного общества: она находится в связи с сущностью всего живого, как основная органическая функция». Отлично сказано, в пику марксистам, если бы не его проповедь, типа выше приведенной: превращения эксплуатации в цель жизни, в пресловутый продукт «следствия воли к власти», его культ «сверхчеловека», ненависть к «посредственности» и озлобленное противопоставление одного другому.
Он не понимал, что вся жизнь как раз и устроена, и нормально эволюционирует только при разумном компромиссе, на разумном сочетании всего и вся и дополнении одного другим. Что под разумным сочетанием, в мире людей, надо понимать такую норму эксплуатации, при которой богатый и умный, знающий и умеющий должны получать несколько, соразмерно, меньше, чем они обществу дают, и компенсировать тем ущербность «несостоявшихся». Что последние являются продуктом социума, ответственного за всю совокупность живого и, в том числе, за организацию первыми названного разумного компромисса. Что, наконец, следствием всякой сверхэксплуатации является деградация общества и, прежде всего, его «аристократических» верхов, их разложение, ожирение и неспособность к достойному использованию и воли, и власти. Что именно отсюда проистекает ненависть «черни», а из нее жажда мести, террор, бунт и революция. Хочешь стать сверхчеловеком – не забывай о возможности удара кинжала в спину; сверхдержавой – самолета в небоскреб.
Ницше – безупречный индивид настроения и больного воображения. Ему, претендующему на звание сверхчеловека, не нравится «нравственный миропорядок», что в судьбе личности «воля божья оказывается господствующей, т.е. наказывающей и награждающей, сообразно со степенью послушания», и он ополчается на церковь. Но не потому, очевидному, что та есть инструмент, созданный аристократами для облегчения столь милой ему эксплуатации черни, а потому, что во главе этой церкви стоит не его «божество», а другое, более хитрое, умное и прагматичное. Жрец, который, придумав рай на небе и загробную жизнь, видите ли, взял на себя право от имени бога «определять ценности и с хладнокровным цинизмом мерить народы, времена, отдельные личности меркою полезности или вреда для своей (жреца) власти». С той же нетерпимостью и на тех же фактически основаниях он проявляет свою ненависть и к евреям, которые также позволили себе покуситься на его человеконенавистную философию и «с ужасающей последовательностью (надо полагать, опять более умно или хитро) вывернули наизнанку аристократические ценности и вцепились в это зубами бездонной ненависти». Разве такое допустимо? Это разрешено только ему – Ницше, сверхчеловеку, а не какому-то, им ненавистному, другому одержимому. Какая безбожная ограниченность и полное отсутствие логики при высочайшей талантливости и способности автора к яркому слову и красивой фразе, на которые фактически и растрачена вся энергия!
В природе должно быть все уравновешено. Желание любого живого нарушить это равновесное состояние и установить неравенство на уровне выше некоей допустимой величины отрабатывает обратную реакцию и тем большую, чем больше желание. Но культура мира пока такова, что одержимых названным желанием еще много. Отсюда спрос на подобные Марксу и Ницше философии. Одиозно в постановке убогие, разные по содержанию и одинаковые по сути, одну из которых взял на вооружение Ленин, а вторую – Гитлер. Не потому ли им были уготованы и одинаковые по трагичности судьбы, «теоретически» обоснованные двумя интеллектуалами – двумя гениями человечества?
И опять, в какой раз, мне хочется отметить, что зло не в Ницше, написавшем все от больного воображения, и не в столь же ненормальном Гитлере, который взял интересующую его часть этого воображения себе в услужение. А в том, как бесчисленное количество разных интеллигентов, кроме сочинительства ничем не занимавшихся и ни с каким настоящим полезным делом не знакомых, – на протяжении иногда чуть не веков, не так, как у меня кратко, а с многословным смакованием, подвергают анализу подобные «творения». И как они, полусумасшедшие, их вершили, и в какой обстановке, и что при этом думали и переживали, что там у них было верного и ошибочного, достойного и плохого, красивого и нелепого и т.д. и т.п., со всей при этом неизлечимой человеческой страстью к величавой монументальности своего собственного труда.
Не в этом ли главное зло? Не в этом ли подвижка к появлению на арене жизни новых «гениев», притязающих на вхождение в большую историю? Ведь человек произведение окружения. Не будь его восхищенного, – не было бы и восхищающего. Выступающих перед пустой аудиторией мне видеть не приходилось. Таков мой еще один взгляд на еще одну великую знаменитость.
Джеймс
Еще один из более современных философов, книжка которого с его очерками популярной философии недавно попала случайно мне в руки с рекомендацией о ее чуть не удивительной полезности и практичности. И что же? А то же самое.
Мы снова, как и у большинства его предшественников, сталкиваемся с заведенностью на определенную волну абсолютно тенденциозного восприятия и отображения действительности. В данном случае авторский «конек», вопреки приведенному выше остроумному замечанию М. Борна, – здоровый прагматизм, но не просто прагматизм, как частный случай способности и наклонности отдельных людей к такой разновидности мышления, – нет. Уильям Джеймс со своих философских позиций может мыслить только категориями всеохватывающими и потому сразу причисляет прагматизм к целому научному направлению, придает ему величайшее значение и пророчит необычайную перспективность.
«Полное торжество этого метода, – заявляет он, – повлечет за собой колоссальную перемену… Наука и метафизика сблизятся между собой и сумеют на деле работать дружно, рука об руку». Вооруженные методологией прагматизма люди отвернутся «от абстракций и недоступных вещей, от словесных решений, от скверных априорных аргументов, от твердых, неизменных принципов, от замкнутых систем, от мнимых абсолютов и начал». Они обратятся «к конкретному, к доступному, к фактам, к действию… Противопоставят его (прагматизм) догматизму, искусственности, притязаниям на законченную истину». Чем не Юм?
И все это и другое ему подобное, как и у его ближайших и далеких коллег, на фоне вполне приличных и логичных утверждений, но прямо противоположных ими же пропагандируемому. Философия, которая «так важна для нас, не есть нечто сугубо специальное». Она «наш индивидуальный способ воспринимать и чувствовать биение пульса космической жизни». Или совсем уж по адресу: «Единство и множество абсолютно равноправны. Ни одно из них не первичнее, не существеннее, не лучше, чем другое».
Как тут устоять от критики, если фактически разносит себя напропалую сам автор. Воистину, философы как будто специально появились на свет для того, чтобы, подвергнув критике своих собратьев, тут же сочинить что-нибудь такое же системное, но однобокое и статичное, для соответствующего завода нового автора. Своеобразный Perpetuum mobile. почему?
Да потому, что в сфере пустой и безответственной болтовни всегда есть стремление «глобализировать» любую проблему, придать предлагаемому вид законченной, претендующей на исключительность, все обобщающей системы. Ну, какой прок можно извлечь из простой констатации, что прагматизм довольно часто не совсем бесполезная штука? Где здесь монументальность, в чем побуждающий стимул для очередной порции разносной критики и нового созидания чего-нибудь законченного системно-оригинального?
Джеймс оседлал прагматизм, а его коллега Жан Поль Сартр, руководствуясь теми же пионерскими увлечениями, – литературу. Вместо вполне очевидного и элементарно простого, что люди пишут по естественной потребности и в согласии со своим, каждого, характером, способностями, желаниями, устремлениями и прочими, какие только можно придумать еще, особенностями человеческой натуры, этот господин, вне элементарной логики, вне, хотя бы чуть-чуть, но все же нами воспринимаемой, общей авторской концепции, попытался придать ей, литературе, статус все организующего и все определяющего социального начала.
В сугубо индивидуальном творческом процессе, каковым является сочинительство и последующее использование его результатов, Сартр вдруг усмотрел «некий единый, (но почему-то) не сформулированный отчетливо выбор»…, хотя «выбор глубокий и один для всех». Почему? Да потому, что он, этот выбор, «вынуждает писателя ангажироваться; любая сторона нашего восприятия сопровождается сознанием; реальность человеческого можно «разоблачить»; наше присутствие в мире множит взаимоотношения; звезда, умершая миллионы лет назад, и этот серп луны, и эта черная река проявляют свое единство, объединяясь в пейзаж, который, достаточно от него отвернуться, утонет в беспросветном мраке, именно утонет, но – вряд ли удастся найти безумца, готового поверить, что он исчезнет вообще; (тем не менее!) земля останется в состоянии летаргии до тех пор, пока ее не разбудит сознание другого человека…».
Далее, после такой музыкальной «констатации», естественно, следует абсолютно не связанный с ней новый ряд умозаключений, хотя и несколько иного плана, более близкого к заданной теме, однако столь же сумбурных по своей сути. Вроде того, что «главный мотив творчества – есть наша потребность чувствовать себя на первом месте по отношению к миру; писатель не предсказывает будущее, – он замышляет; писатель пишет не для самого себя; процесс писания подразумевает и процесс чтения, они образуют диалектическое единство; чтение есть творчество под руководством автора – это направляемое творчество, абсолютное начало; (однако!) писатель не может читать то, что он написал, (не в пример сапожнику!) который может обуть сделанные им башмаки, если они ему по размеру!…». И т.д. – еще долго, сложно и почти всегда сверхвычурно. Какой-то алогичный (обращаю внимание, не специально надерганный мной из разных мест, а почти подряд выписанный) набор слов и фраз, который, как крайний случай, можно признать разве лишь за собственные лишенные смысла авторские представления, но отнюдь не за то, что хотя бы слегка приближало нас к ответу на поставленный выше вопрос. Страница за страницей, – без исключения.
На том же уровне и последующие выводы. Автор утверждает. Что писатель открыл «роскошные изобразительные средства» и тем самым почему-то «предал литературу». Что ему, бедному, из-за этого не «удалось отыскать слушателей среди угнетенных» и «создать в массах движение идей, открытую, противоречивую, диалектическую идеологию». А потому (надо ведь придумать) победивший марксизм страны Советов остался «без оппонентов, потерял жизненность» и, «оказавшись в одиночестве, стал Церковью». Какая заумность?! Весь окружающий мир ему, марксизму, оппонировал – не считается. Сам по себе марксизм есть утопия – так же. Писатель, видите ли, не так сработал – вот в чем причина!
Следует отметить, здесь Сартр проявил даже некую самокритичность, заявив о возможной «пристрастности и спорности» такого его упрощенного «анализа». Правда, тут же забил ее брошенной фразой о «известности» (для подобного заключения) «множества исключений», для «учета» которых ему «пришлось бы написать толстенную книгу». Надо понимать, такую же бестолковую и многословную, как и эта, мною рассматриваемая. (У меня лично все объяснение марксистского феномена поместилось на паре страничек.)
Да и вообще, как можно серьезно воспринимать оговорку о «пристрастности», может даже и не одну, на фоне всего им длинно и пусто написанного и, особенно, на фоне его столь архиобобщающего заключения? – «Мир вполне может существовать без литературы. Но еще лучше может существовать и без человека». Отбросим вторую половину фразы из-за ее бессмысленного краснобайства. Первая, – абсолютно верна, но с небольшим дополнением: «без литературы, сочиненной Сартром». Говорят, известный писатель, присуждалась якобы ему даже Нобелевская премия. Так и хочется вспомнить старую сказку и закричать: – А ведь Король-то голый!
Или вот еще один (исключительно плодовитый, написавший чуть ли не шестьдесят томов) глашатай истины и «мысли ХХ века» – Мартин Хайдегер, с величайшей влюбленностью представленный нам В. Бибихиным. Также вне всякой элементарной логики Хайдегер и вторящий ему Бибихин, с одной стороны, преподносят нам философию «как более строгую, чем математика, науку, где всякое мыслительное содержание разбирается до тех пор, пока мысль, разбирая завесы представлений, не доберется до «самих вещей», а с другой, «опираясь на столь исчерпывающую характеристику», – учиняют критику всей им предшествующей этой самой философии «жизни, ценностей, антропологов, неоскептиков, экзистенциалистов». Для чего?
А для того, чтобы по всем правилам творчества «чистых» философов, затем, после этого стандартно оформленного разноса, впасть в одностороннюю мистику и объявить. Что к смыслу жизни и бытию надо подходить с некоего «забытого конца». Искать их «не где-то, а в самом человеке как его собственном скрытом существе». Что «призвание человека не в том, чтобы реализовать одну из своих возможностей, а в том, чтобы осуществиться в своем существе «понимающего в бытии пастуха его истины».
И так далее, в том же духе противопоставления естественному движению жизни, в том числе и возмущающей авторов «планетарной технической цивилизации», может быть, действительно порой даже идиотической, но естественной. Этому, так называемому Хайдегером, «поставу» – всепоглощающую мысль, которая:
«Преодолевает метафизику не тем, что, взобравшись еще выше, перешагивает через нее и «снимает» ее, куда-то «поднимая», а тем, что опускается назад в близь Ближайшего… Внимает просвету бытия, вкладывая свой рассказ о бытии в язык как жилище экзистенции… Прошла через мертвую точку молчания и способна слышать бытие так, чтобы не быть затянутой в нигилистический водоворот».
Вы что-нибудь уяснили, читатель? Я – ничего, кроме еще одного подтверждения неистребимой страсти философствующей братии к самоутверждению через удивительную способность к тенденциозному, в принципе весьма однообразному по сути и полезности, но столь же разнообразному по форме, многословному словотворчеству.
Тут будет уместным, в пику этой философской одержимости, сослаться на действительно трезвую оценку человеческих деяний – на принцип дополнительности. Введенный в практику анализа физических явлений Нильсом Бором (не только великим ученым, но уж точно и великим мыслителем), он говорит о том, что всегда существует по крайней мере два аспекта процесса и в каждом отдельном случае необходимо выбирать, какому именно следует отдать предпочтение.
В переводе на обычный житейский язык этот принцип может быть представлен как просто руководство здравым смыслом. Нормальному человеку совершенно не свойственны однозначные трактовки таких противоположных понятий, как: «Да – Нет»; «Добро – Зло»; «Социализм – Капитализм». Он всегда исходит из разумного компромисса и для него нет явлений, событий, предметов с одними плюсами или одними минусами. Только взвешенный многофакторный, а не тенденциозно-однобокий анализ всех «за» и «против» позволяет сделать более или менее верную оценку чего-либо и полностью исключить одномерные философские построения вроде тех, что были приведены выше.
Нас не должно особо беспокоить соотношение между душой и телом, между материализмом и идеализмом, между чем-то непонятным и тем, что мы знаем и в состоянии доказать и измерить. Не следует из последнего делать весьма подозрительные «теоретические» выводы в пользу объяснения первого, особо, когда эти выводы строятся на весьма сомнительных допущениях и ограничениях.
В порядке противопоставления упомянутым явно надуманным построениям можно дополнительно привести также нечто из провозглашенного другим великим ученым – Ньютоном. «Главная обязанность философии – делать заключения из явлений, не измышляя гипотез, и выводить причины из действий до тех пор, пока мы не придем к самой первой причине. Почему Природа не делает ничего понапрасну, и откуда проистекает весь порядок и красота, которые мы видим в мире? Каким образом тела животных устроены с таким искусством и для какой цели служат их различные части? Был ли построен глаз без понимания оптики, а ухо без знания акустики? Каким образом движения тел следуют воле и откуда инстинкт у животных? И если все так правильно устроено, то…». И вот рядом с такой красотой мира, на уровне далее следующего ньютоновского «разумного, всемогущего, бесконечного», милые человеческие глупости: «прагматизм, литература, философия, более строгая, чем математика». Математика для критикуемой мной гвардии, как красная тряпка для быка. Надо же довести себя в пылу полемического задора до такого состояния ограниченности, чтобы столь пренебрежительно говорить о главнейшем научном инструменте человечества, позволившем познать наш мир, обеспечить современный уровень цивилизации… и кормить многотысячные армии говорунов!
Нужно, не переживая, признать: все, что касается исходных принципов организации жизни (не только в глобальном масштабе, но порой и в ее частностях), – есть пока необъяснимая для нас тайна. Мы точно не знаем ответа на сакраментальный вопрос – почему? Почему великое уживается с ничтожным? Почему так, а не иначе устроен мир? Почему так, а не иначе определяет свое движение по жизни человек? Ламетри прав.
Гамильтон
Александр Гамильтон – один из основателей конституции, становления и укрепления американского государства. Яркая личность, наделенная огромной энергией, высочайшей целеустремленностью, незауряднейшим умом, чувством здравого смысла, удивительной практичностью и, в довершение, талантом превосходного публициста.
С 11 лет он вынужден был полагаться только на себя, на собственные силы и способности. В 14 лет – старший клерк в конторе крупного торговца Крюгера, который вел дела по обе стороны Атлантики.
В таком, по нашим понятиям, совсем детском возрасте, оставшись как-то за хозяина, он управляет фирмой и безапелляционно отдает команды опытным седоусым капитанам. Этого ему мало. В те же 14 пишет и печатает в местной газете свою первую статью… «Правила для государственных деятелей» и, пока еще в подражание, поучает читателя в необходимости твердой власти, хвалит британскую систему правления, считает ее «мудрым установлением». После сей заявки в 15 лет он покидает родной остров Нэвис в Карибском море и появляется в Нью-Йорке с тем, чтобы через три года сделать свое имя известным в кругу американских политиков. Вот каким образом тогда наставлял их этот 18-летний юнец.
«Безотлагательность ситуации требует решительных и надежных мер… Мы можем прожить и без внешней торговли. При необходимости мы образуем и укрепим собственное фабричное производство. Оно проложит путь к славе и величию Америки и сделает страну менее уязвимой для посягательств тирании… Гуманность не требует от нас жертвовать своей безопасностью и благополучием для удобства или интересов других. Самосохранение – главный закон человеческой природы. Когда на карту поставлены наши жизнь и собственность, было бы глупо и неестественно воздерживаться от мер, способных сохранить их только по той причине, что они могут причинить ущерб другим… Бурные времена требуют от политических кормчих величайшего искусства для того, чтобы держать людей в нужных рамках».
Через пару лет его, бросившегося с мечтой о ратных подвигах в армию и прослужившего к тому времени в ней менее года, замечает Вашингтон и приглашает к себе на пост личного адъютанта главнокомандующего. И что же он? Выполняет чисто адъютантские поручения? Ничего подобного. Он становится доверенным лицом нью-йоркских финансовых воротил. Начав с освещения чисто военных вопросов, он весьма скоро переходит опять к изложению своих взглядов и поучений по самым разным вопросам. Амбиции его не знают границ.
В должности адъютанта он излагает свой первый экономический манифест, весь проникнутый гамильтоновским практицизмом и откровенностью. Он пишет об основной проблеме – о «состоянии денежной системы»; налогах, что «ограничиваются не только богатством государства, но и характером, привычками и настроениями населения, не позволяющими в данной стране поднимать их высоко»; займах и людях, трудно заставляющих себя ссужать обществу деньги, «когда могут найти более прибыльные способы их использования»; о создании национального банка; наконец, о главном в своей концепции – подчинении всего плана такой денежной системе, которая бы делала людей «непосредственно заинтересованными в сотрудничестве с государством», полагая при этом, что «самая надежная опора любого правления – личные интересы».
Одержимый таковыми имперского масштаба соображениями, он оставляет армейскую карьеру и окунается полностью в политическую борьбу. На этот раз – в борьбу за Конституцию. Его исходные позиции здесь проникнуты опять той же самой открытой практичностью. «Все общества разделяются на избранных и многих. К первым относятся богатые и родовитые, к последним – масса народа. Имущественное неравенство составляет огромное и важнейшее различие в обществе. Оно так же вечно, как и стремление его к свободе. Говорят, что глас народа – глас божий, но в действительности это не так. Народ буен и изменчив, он редко судит и решает правильно. Поэтому нужно предоставить первому классу твердую и постоянную роль в управлении государством. Республика не допускает решительного правления, в котором и состоит как раз все достоинство государства».
Только такой подход, считал Гамильтон, в силах обуздать «безрассудство демократии». Это его основополагающий макиавеллевский принцип политического мировоззрения. Но лишь исходный принцип, а отнюдь не вся концепция. И потому он, будучи к тому же настроенным против богачей, утверждал, что «подлинная свобода кроется не в деспотическом строе или крайностях демократии, а в умеренном правлении». Исходя из чего, добавлял к чистой олигархии демократический противовес – нижнюю палату, а к ним в целом монарха, которого именовал «губернатором».
В полной совокупности это была достаточно доктринерская позиция, и она была сглажена в согласованном варианте американской конституции, но именно она-то и сделала конституцию столь долго действующим документом. Для того же, чтобы это стало реальностью, потребовалась беспрецедентная пропагандистская работа, в которой Гамильтон принял главенствующее участие, написав за 8 месяцев лично более 50 статей в знаменитую серию «Федералист» с ее явной направленностью в защиту предложенного проекта. Феноменальный случай в истории обоснования любой иной известной нам похожей идеи.
Он с величайшим напором и прирожденной, упомянутой нами, откровенностью называл все своими именами и потому более чем кто-либо из его сподвижников способствовал принятию конституции. Он исходил при этом из реального мира с его «неисчислимыми источниками враждебности между государствами: жаждой власти и ревностным отношением к власти других, стремлением к господству и преобладанию, торговыми противоречиями и личными мотивами».
«Что до сих пор изменила торговля, кроме целей войны? – задает он вопрос. – Разве республики на практике оказались менее подвержены войнам, чем монархии? Не пора ли пробудиться от призрачных грез о «золотом веке» и взять за правило, что мы еще очень далеки от счастливого царства абсолютной мудрости и совершенной добродетели? Единство торговых и политических интересов может проистекать только от единства правления».
И, наконец, его заключительные победные аккорды непосредственно перед голосованием. «Предлагаемая государственная структура так сложна, так искусно построена, что практически исключает возможность успешного прохождения неполитичных или злонамеренных мер. Чего же хотят джентльмены, которые выступают против такого государства? Почему они требуют, чтобы мы ограничили его власть, его возможности, подорвали его способность осчастливить народ? Когда мы создали систему, совершенную настолько, насколько может быть совершенно творение человека, вы должны довериться, вы должны предоставить власть!»
А вот еще кое-что из более позднего —в рамках принятой новой конституции, когда он был назначен главным финансистом страны – страны разоренной, наводненной спекулянтами всех мастей, со слабой промышленностью и огромным государственным долгом. С чего начать?
Он отбрасывает, в частности, все возможные наиболее очевидные варианты ликвидации или уменьшения государственного долга, вроде: распродажи свободной земли, инфляции или оплаты государственных бумаг по бросовой рыночной стоимости. В отличие от наших политиков и горе- экономистов времен перестройки он принимает к обеспечению весь долг, мало того, включает сюда еще и долг штатов, так как считает абсолютно неприемлемым для государства отступление от своих долговых обязательств, дабы «не опрокинуть всю общественную мораль». Иначе, добавляет он, «у вас будет что угодно – анархия, деспотизм, но только не справедливое и налаженное государство». Сильное и справедливое государство – это неизменный его конек. Теперь он прямо занимается его возведением и непосредственно претворяет в жизнь то, что так рьяно защищал ранее.



