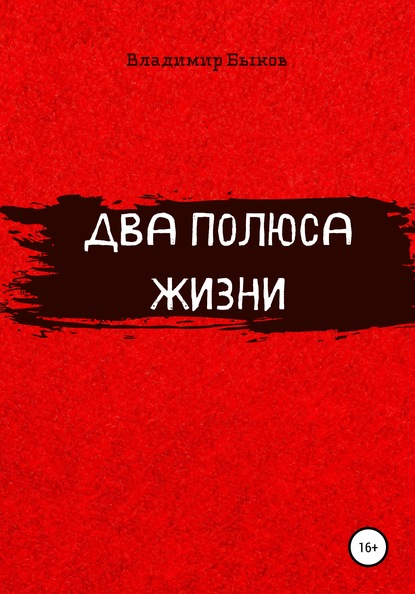 Полная версия
Полная версияДва полюса
Популизм, ложь и демагогию – как главные средства обращения людей в нужную веру и совращения их на революционные преобразования.
Почти полное несоответствие между желаемым и достигнутым, между обещаемым и реализуемым.
Развращенность власти, подчиненность ее придворным условностям, тщеславной самовлюбленности, страсти ко всей мерзостной дворцовой помпезности и мишуре, обретению всевозможных благ в чисто обывательском личностном плане.
Практическую бессмысленность, разрушительность революции и последующую после нее возможность становления системы и доведения ее до более или менее работоспособного созидающего состояния только в рамках длительного процесса эволюционного характера.
У Ельцина это проявилось особо противным образом, поскольку он, в отличие от таких же одержимых властными поползновениями его предшественников (Горбачева и прочих послесталинских руководителей мы тут в виду не имеем, ибо у них были одни властные желания, но не было данных к их реализации), оказался безупречно отшлифованным продуктом советской эпохи и хорошо усвоил лишь культуру трибунных речей, звонких революционных лозунгов и большевистской беспардонности, а в целом – антигосударственником.
Тем не менее есть одно, что может сделать Ельцина исторической личностью. В неудержимом порыве к личной власти он (этого от него не отнимешь) смел старый прогнивший строй и вывел на арену жизни новых людей, которые, надеюсь, начнут ее правильное обустройство в рамках упомянутого нормального эволюционного движения, в рамках естественной борьбы за существование всего живого, ничего общего не имеющего с революционными обещаниями им «ожидаемых» чуть не мгновенных, через полгодика, райских перемен.
ИНЖЕНЕРЫ, УЧЕНЫЕ, ПИСАТЕЛИ
Форд
Генри Форд – человек, который произвел на меня неповторимое впечатление еще в детском возрасте. Случайно попавшая в руки его книжка «Моя жизнь и работа», наполненная реальной фантастикой созидания, оказалась сильнее всех прочитанных к тому времени придуманных романов Жюль Верна, Майн Рида, Марка Твена и даже Джека Лондона. Много раз я со временем перечитывал Форда и о нем написанное – мои первые впечатления оставались прежними, лишь углублялись и становились более доказательными за счет той части, что не могла быть воспринята в детстве, когда внимание сосредоточивается главным образом на сюжете произведения, а не на его осмысливании.
Генри Форд – гениальный инженер, организатор и прагматик, внесший в копилку нравственности и человеческого благополучия больше, чем кто-либо другой из нам известных, специально посвятивших себя заботам об этом самом человечестве. Он один из немногих в мире, у кого слово не расходилось с делом и всё, о чем мечтал и что проповедовал, заканчивалось всегда одним и тем же – конкретным делом.
Форд построил превосходнейшие автомобильные заводы и посадил на автомобиль буквально всю работающую Америку. По пути создал образцовые по технологии и организации предприятия чуть ли не во всех областях, связанных с производством автомобиля, начиная от текстильной и стекольной фабрик до обслуживающих его заводы железной дороги и молочной фермы. Он первый, по делу и достигнутому результату, стал производить не для избранных – богатых, а для массового покупателя – рабочего по принятой им схеме: высокая производительность – большая зарплата – увеличение объема продаж и дохода – расширение и рационализация производства – снова увеличение производства и далее в том же духе. Он первый придал особое значение косвенным составляющим максимального повышения производительности и качества труда: порядку, чистоте и освещенности производственных помещений, демократичности в общении, высочайшей оперативности в решении любых вопросов, доверию к подчиненному и наделению его соответствующими правами, организации мобильнейшей системы поощрений трудящихся за дельные предложения и вообще всему тому, что отвечает здравому смыслу и является привлекательным для человека труда.
Он никогда не создавал организаций ради организаций. Он придумывал идею или находил человека с идеей и под нее, признанную добротной, только и учинял нужную реорганизацию. Был нетерпим к любой форме бюрократизма и ненавидел всякий стандарт, если он мешал делу и прогрессу. Ко всему прочему Форд был величайшим пропагандистом технического прогресса, массовой автомобилизации, идей освобождения человека от тяжелого труда, обеспечения ему «успешности», как он говорил, в работе, заработке и комфортной жизни.
Две книжки Г. Форда: упомянутая выше и вторая – «Сегодня и завтра», вышедшие соответственно в 1922 и 1927 годах, были сразу переведены и переизданы в Советском Союзе. Напечатаны они были по правилам тех лет без каких-либо купюр, но оба раза с вступительной разносной редакционной критикой Форда во всех капиталистических грехах, что сработало наоборот и, кажется, послужило лишь еще одним побудительным стимулом для популяризации и широкого распространения среди инженерной интеллигенции его взглядов и методов деловой организации производства. Приведенные в этих книжках мысли так же оригинальны и практичны, как и его конкретные дела. В них нет фальши и обмана и все вещи названы своими именами, как бы они ни были неприятны кому-либо. Вот часть из них, что достойна, на мой взгляд, особого внимания для понимания, кем был Г. Форд и почему мы живем плохо.
«Двадцать пять лет назад нам говорили относительно крупных предприятий, но их тогда, в сущности, не было, – были только крупные накопители денег. А деньги не есть промышленность. Денежные тузы старались захватить промышленность и подчинить ее своему влиянию при помощи накопленных капиталов. Некоторое время вся страна только и говорила об их подвигах. Но финансисты-заимодавцы редко оказываются хорошими предпринимателями. Спекулянты не в состоянии создавать ценности.
Наилучшим способом защиты народа от власти денег является промышленная система, покоящаяся на сильном и здоровом основании благодаря тому, что она оказывает полезные услуги обществу.
Организация промышленности, исходящая из принципа наилучшего обслуживания народа, не мешает извлечению выгод. Применение в нашей экономической жизни правильных принципов не уменьшает, а увеличивает богатство. Мир в целом гораздо беднее, чем он должен был бы быть, только потому, что стремится лишь получать и не понимает практической важности закона обслуживания публики и увеличения предприятия.
Если рабочие должны повиноваться каким-то авторитетам извне, а не администратору, тогда управление делом невозможно.
Почему прекращаются иногда все полезные операции? Только потому, что некоторые люди иногда говорят: «Наступило время урвать побольше. Публика желает получить то, что мы можем продать; воспользуемся моментом и взвинтим цены». Такой образ действий столь же преступен, сколь преступно извлечение выгод из войны. Он порождается невежеством. Некоторая часть промышленных предприятий так мало понимает законы, управляющие человеческим благосостоянием, что времена промышленного оживления (даже оживления, а что же тогда можно сказать о нашем теперешнем застое) кажутся им удобным моментом для наживы. По их мнению, наивысшая деловая мудрость заключается в том, чтобы наживаться, пока можно.
Платить человеку высокую заработную плату за малое количество труда – это значит оказывать ему величайшую несправедливость, ибо в таком случае высота его заработка повышает цену товаров и делает их недоступными для него.
В результате сделки и покупатель, и продавец должны обогащаться, в противном случае равновесие нарушается. Если таких нарушений накопится слишком много, вся мировая экономика опрокинется. Нам нужно еще научиться той истине, что всякая сделка, не приносящая выгоды обеим сторонам, является по своей природе антисоциальной.
Мы не вводим изменений ради изменений, но мы всегда изменяем процесс, как только будет доказано, что новый лучше старого. Мы считаем нашей обязанностью убирать все препятствия, мешающие прогрессу, и оказывать обществу все лучшие и лучшие услуги, придерживаясь нашей политики цен и зарплаты.
Отделаться от традиций нелегко. Вот почему все наши новые операции всегда руководятся людьми, ранее не занимавшимися этим делом и потому не привыкшими считать то или другое «невозможным». Мы призываем на помощь технических экспертов всякий раз, как это кажется необходимым. Но никакой процесс не руководится непосредственно техником, ибо техник всегда знает слишком много «невозможных» вещей».
А вот что он писал о том абсолютно очевидно полезном в глазах многих людей, что определяется словом «стандарт».
«При установлении стандарта приходится действовать медленно, так как гораздо легче установить неправильный стандарт, чем правильный. Один способ стандартизации влечет за собой инертность, другой – прогресс. Если под стандартизацией вы понимаете наилучшие известные сегодня методы, но подлежащие усовершенствованию завтра, то такая мысль приведет к полезным результатам; но если стандарт равнозначен для вас ограничению изобретательности, то вы можете привести дело лишь к остановке прогресса. Стандартизация что-либо значит лишь в том случае, если она означает усовершенствование. В глазах же некоторых теоретиков стандарт – нечто вроде стальной формы, в которую можно на неопределенное время заключить все человеческие усилия».
И это пишет человек, который первый обеспечил полную взаимозаменяемость всех узлов автомобиля и стандартизировал на своих заводах всё, что только можно придумать: от мерительного и прочего инструмента, приспособлений, общих деталей и их типоразмерных рядов до однотипного оформления «Стандартов фордовских машин», имеющих назначение «поддерживать однородность работы» во всей его организации. Гибкость и еще раз гибкость – вот рабочее кредо этого человека. Хорошо всё, что работает на пользу и отвечает здравому смыслу. С таких же позиций он подходит и к оценке общих проблем.
«Можно спорить о том, следует ли или не следует называть цивилизацией высокий уровень жизни. Но, по нашему мнению, даваемое цивилизацией материальное благополучие связано с ростом интеллекта, так как без экономической независимости не может быть и независимости ума.
Так называемая филантропия есть особенно низкая форма самолюбования, низкая потому, что, претендуя на оказание помощи, филантропия на самом деле приносит вред. Она создает ничего не производящих, а между богатым и бедным трутнем разницы никакой нет. И тот и другой лежат бременем на производстве.
Ни один человек ничего не может сказать о будущем. Будущее всегда заботилось о себе, несмотря на наши доброжелательные усилия ему воспрепятствовать.
В правительстве не заложено ничего, что не исходило бы от народа, а народ, в котором убит дух самостоятельности, все меньше и меньше способен содействовать исполнению своих желаний, пока наконец и народ, и правительство – оба не впадут в полную беспомощность.
Политика не может ничего создавать – она может начать разрушение, или пытаться сохранить прежнее положение, что тоже является разрушительным процессом, только медленным, т. к. нельзя заставить жизнь стоять смирно. Мы видим рабочие правительства, берущие власть под предлогом сделать что-нибудь для рабочего класса, мы видим капиталистические правительства, берущие власть под предлогом помочь капиталу. Но так велика политическая бессмыслица, что мы никогда не видим правительств, берущих власть, не предлагая никаких патентованных средств помочь народу».
В 20—30-е годы научно-инженерная элита под воздействием своего дореволюционного воспитания просто не могла не воспринять и не взять на вооружение фордовские идеи. Фордистом, уже по другим соображениям, был и Сталин. Думаю, что об американской деловитости он писал как раз под их впечатлением. Ими он, похоже, руководствовался в значительной степени и практически при индустриализации страны.
Я лично еще в 50-е годы, время начала своей работы, застал обстановку огромной настроенности на дело и конечный полезный результат большинства тогдашних руководителей. Постепенно, начиная с 60-х годов, этот деловой дух, под давлением генеральных принципов социализма и партийно-бюрократического воспитания людей, стал все больше и больше сдавать и наконец докатился до того отвратительного (даже мерзкого, по своему полному несоответствию принципам здравого смысла) состояния, с которого и двинулась несчастная перестройка. Мы забыли, чуть не все, чем руководствовался и что так мощно пропагандировал Форд.
Не хочу сказать, что ничего не делается сейчас, но согласитесь, что, по большому счету, мы пока занимались и продолжаем заниматься в основном созданием витринного благополучия и пребываем фактически в том исходном состоянии, о котором упоминалось выше. Истинное движение вперед начнется только тогда, когда мы покончим со спекулятивно-низменным мышлением и бросим свои силы и капитал в крупномасштабное инвестирование промышленности, и не только средств потребления, но и средств производства, в полном соответствии с заветами великих инженеров и организаторов – Г. Форда и С. Витте.
Крылов
Алексей Николаевич Крылов – удивительная личность с поражающей нестандартностью мышления и поступков, начиная с первых детских шагов и кончая его воспоминаниями. Он, будучи в весьма преклонных годах, написал их за 25 дней, и, как показалось его внуку Андрею, сыну П. Капицы, все по памяти. Не будем оспаривать А. Капицу в части последнего, но не станем и забывать о достаточно объемном крыловском архиве со статьями, письмами, заметками, проектами, заключениями, отзывами, рекомендациями. Всем тем, что, в силу его огромного настроя и способности к живому разговорному слову, было составлено уже в виде, позволявшем использовать любой подходящий материал в мемуарных целях без каких-либо на то даже малых купюр.
Естественно, не могли остаться тут в стороне ранее напечатанные им в разных изданиях очерки, соответствующего плана, и, вполне возможно, что-то из действительно врезавшегося в память, из того, что увлеченно и многократно, надо полагать, по разным случаям рассказывалось им устно. Рассказом он владел в совершенстве, он ему явно импонировал, и потому в такой форме, форме отдельных коротких рассказов, и представлены нам его воспоминания. Что же в них покоряет?
Окружение, где каждый человек личность, – знаменитые охотники, рыбаки и собачники, известные ученые, инженеры, врачи, дельцы и бездельники, государственные мужи и высокопоставленные чинуши, весьма умные и совсем дураки. Детские проказы – порой обычные, но и такие, на которые едва ли бы мы были способны. Школьные годы – когда отец, дабы по-настоящему обучить языкам, сначала забросил его на пару лет во французский пансионат, а затем в таковой же немецкий. Служебная и научная карьера с многочисленными заданиями, поручениями, командировками, коллизиями, приключениями и встречами с интересными людьми. Величайшее самоуважение автора, достоинство, впечатляющая оригинальность в принимаемых им решениях и действиях – почти всегда и почти везде. Приятная мне в чем-то похожесть на людей, которыми, проходя сам по жизни, я гордился и продолжаю гордиться. Наконец, манера повествования в виде краткого и образного полуохотничьего-полурыбацкого рассказа – даже если он касается вполне серьезных дел.
В подтверждение не могу не доставить себе удовольствие и не повторить (с некоторыми несущественными сокращениями) кое-что из им написанного.
Вот его злая шутка, свершенная им лет в шесть по отношению к местному архимандриту Авраамию.
«Знал я, что батюшка Авраамий любит разварного судака и притом непременно голову. Сура (река, на которой они жили) по большей части своего протяжения течет песками, и судаки в ней водились и по величине и по вкусу редкостные. Вот и выследил я, что у бабушки на кухне большой обед для батюшки готовится и по обыкновению громадный разварной судак.
Выложила кухарка Марья-мордовка судака на блюдо, обложила всякой всячиной – только соусом полить и на стол нести; а я заранее чуть не целый карман громадных черных тараканов заготовил. Вышла Марья из кухни, я мигом и насовал тараканов в судачью голову. После этого принял самый невинный вид и жду, что дальше будет. Понесла Марья судака в столовую, я насторожился; вдруг слышу какое-то смятение, ахи, охи; я предпочел не дожидаться конца и удрал.
Был мне затем учинен допрос:
– Сознавайся, ты тараканов насажал?
– Никаких тараканов не видел и даже не знаю, о чем спрашиваете.
За неимением прямых улик я был оставлен в сильном подозрении, но наказанию не подвергнут.
Только лет через двадцать пять, когда бабушке минуло 90 лет и съехались родные, я сознался, что тараканы моих рук дело. Среди присутствующих были старики, которые знаменитый обед помнили, а кто из них помудрее, те говорили:
– Я тогда еще считал, что виноват ты или нет, а выпороть тебя следовало: видели, как ты в кухне вертелся». Скажите, мог ли Крылов не поведать эту прелесть где-нибудь у костра за ухой и стопкой водки.
Другой – из серии запомнившихся ему отцовских охотничьих рассказов про Валерия Гавриловича Ермолаева, которому прозвище было Валерий-разбойник.
«Валерий Гаврилович был мужчина нрава крутого, лихой наездник и смелый охотник, причем он особенно любил травить волков. На охоте скакал через овраги и буераки, ничего не разбирая; под старость, когда стал грузен, на охоту выезжал на дрожках. Николай Михайлович Филатов, человек правдивый, рассказывал мне (заметьте, это чисто охотничий прием насчет правдивости и что идет уже тройной пересказ). Встретились случайно на Кише – Николай Михайлович с ружьем, Валерий с борзыми.
– Николай Михайлович, у меня в этом острове волк обложен, хотите посмотреть, как травить буду?
Однако травля вышла неудачная. Волк ушел по вине доезжачего, не решившегося перемахнуть вскачь через овраг. Валерий пришел в бешенство и начал неистово ругаться: «Какой ты доезжачий, хуже бабы, овражка испугался, верхом перескочить не мог, да я на дрожках перемахну». И действительно махнул, но только не через, а прямо в овраг, на дне которого все смешалось в одну кучу: лошади, дрожки, кучер и сам Валерий. Каким чудом живы остались, Николай Михайлович говорил, – никак понять не может».
А вот из той же серии рассказов-анекдотов, о Л.Н. Толстом во времена Крымской войны.
«Л.Н. Толстой тогда хотел извести в своей батарее матерную ругань и увещевал солдат: «Ну к чему такие слова говорить, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, «елки тебе палки», «эх, ты, дондер пуп», «эх, ты, ерфиндер» и т.п.
Солдаты поняли это по-своему:
– Был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уж матерщинник был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь».
Таких баек масса, но есть среди них почти в том же гротесковом духе и о предметах более серьезных, о делах служебных.
В каком-то году «заканчивалось оборудование «Андрея» и «Павла», и Балтийский завод представил проект убранства адмиральской каюты, художественно нарисованный архитектором. Предлагалась мягкая штофная мебель, козетки и кушетки в стиле какого-то из французских Людовиков. Я и положил на представлении Балтийского завода такую резолюцию: «К докладу товарищу морского министра. Со своей стороны полагаю, что убранству адмиральской каюты более подобает величавая скромность кельи благочестивого архиерея, нежели показная роскошь спальни развратной лицедейки». При докладе И.К. (товарищ министра) сказал: «А ведь красиво», – и велел мне дважды прочесть мою резолюцию. «Красиво, ваше превосходительство, но в бою вредно». Тогда И.К. написал: «С мнением председателя Морского технического комитета (Крылова) согласен».
Это не исключение. Позволю себе для полноты впечатлений об этом человеке, о нетрафаретном мышлении его при движении в любом желаемом направлении с максимальной эффективностью и, даже с внешним эффектом, привести еще несколько выдержек из его воспоминаний.
Присылают ему из штаба, в связи с предстоящей загранкомандировкой, гражданский паспорт, а надо бы дипломатический, избавляющий от всяких таможенных формальностей. «Иду, – пишет Крылов, – в штаб, получаю ответ, что такой выдается только с «высочайшего соизволения» и что получить можно не ранее, как через две недели. Иду в МИД. Принимает меня с утонченной вежливостью начальник канцелярии со звездой на боку, т. е. в генеральском чине. Узнав причину, говорит, что надо обратиться в Первый департамент. Иду туда, принимает с такой же любезностью вице-директор и говорит, что надо обратиться во Второй департамент. Иду во Второй, принимает сам директор и говорит, что надо обратиться в канцелярию. Круг замкнулся.
Выхожу в коридор, стоит курьер, нос луковицей, ярко-красный. Подхожу, сую в руку пятирублевик:
– Скажите, голубчик, мне надо получить паспорт и пропуска на 15 вещей, чтобы их в немецких таможнях не досматривали. Проводите меня к нужному человеку.
– Пожалуйте, ваше превосходительство. – Вводит меня в комнату: – Вот, Иван Петрович, его превосходительство изволит ехать в Гамбург, им надо паспорт и открытый лист на 15 мест вещей.
Подходит И.П. к конторке и вынимает из кипы паспорт:
– Фамилия, имя, отчество вашего превосходительства?
Выписывает и вручает мне. Назавтра приезжает курьер, опечатывает все ящики, как полагается, вручает открытый лист, получает пяти- и десятирублевый золотой, величает меня уже «ваше сиятельство» и, видимо вполне довольный, уезжает.
Когда я рассказал это и показал вещи членам моей команды, они ни глазам, ни ушам верить не хотели».
Или. Чуть ли не на другой день после назначения директором Главной физической обсерватории собирается он явиться Министру народного просвещения и спрашивает ученого секретаря Гейнца: нет ли у него к тому каких-нибудь денежных дел?
« – Есть, мы второй год хлопочем об устройстве канализации для аэрологической обсерватории, а то там 60 служащих – из всех ватерклозетов все спускается в открытую канаву, а она идет к источникам водопровода Царского Села. Надо 6000 рублей, а мы ничего добиться не можем.
– На такое-то дело? – да завтра же у вас будет ассигновка не на 6000, а на 60000 рублей. Прикажите переписать на бланке директора рапорт Министру. «Мой предшественник князь Б.Б. Голицын неоднократно ходатайствовал перед Министерством народного просвещения об экстренном ассигновании на устройство канализации для обсерватории в Онтолове. Там находятся 60 служащих, и экскременты, жидкие и твердые, из всех отхожих мест спускаются открытой канавой к источникам, питающим дворцовый водопровод. Докладывая о сем Вашему сиятельству, обращаю Ваше внимание, что указанный непорядок требует немедленного устранения, как угрожающий здоровью государя императора и его августейшей семьи. По предварительному исчислению, потребное ассигнование не превышает 60000 рублей». Обратите внимание, «не превышает» – так что не врет, пишет вполне корректно.
Подробности пропускаю. Концовка следующая.
«Явился по вызову Министра некий Палечек. – Прочтите этот рапорт и немедленно выпишите ассигновку на 60000 рублей, и чтобы завтра же деньги были вручены обсерватории. Вы себе не представляете, какие для вас последствия может иметь промедление в этом деле».
И т.д. примерно в том же духе: от его нравоучительной публичной сентенции думским заседателям, дабы они больше не приставали к деловым людям с глупыми вопросами, до перевозки приобретенных за границей паровозов, когда он, при Советах, при Ленине, для удешевления операции купил пару пароходов, предназначенных на слом. За копейки их отремонтировал, да еще по дороге и приспособил для одновременной погрузки большего числа паровозов, а после доставки последних, один пароход продал чуть ли не за ту же цену, а второй, оказавшийся крепким, даже передал морфлоту для использования по прямому его назначению.
Для себя отметим, что есть в приведенном некоторое авторское приукрашивание, много «Я», но – не коробит, не режет слуха. Наоборот, задаешь невольно вопрос: а почему у нас-то сейчас все серо и обезличено, кругом мы, да мы, и не знаешь, кто конкретно?
Наконец, последняя выдержка, которой я считаю возможным еще несколько задержать внимание читателя, – на тему умения и способности Крылова отдать должное талантливости других людей, причем в том же прелестном виде. В частности, про хорошо ему знакомого корабельного инженера-самоучку Петра Акиндиновича Титова.
«…Приехал как-то в Петербург француз – старый кораблестроитель, член Парижской академии наук, знаменитый инженер де Бюсси. Его хотели быстренько провести по постройке одного из кораблей. Но не тут-то было. Старик сразу заметил, что постройка ведется оригинальными, не рутинными, способами, быстро свел его сопровождающего на роль простого переводчика и стал вникать во все детали, расспрашивая Титова. Он забыл про завтрак, облазил весь корабль и провел на нем часа четыре. Прощаясь, он взял Титова за руку и, не выпуская ее, сказал при всех: «Переведите вашему инженеру мои слова: “Я 48 лет строил суда французского флота, я бывал на верфях всего мира, но нигде я столь многому не научился, как на этой постройке”». Титов был растроган почти до слез, – зато вечером и было же у него приятелям угощение!



