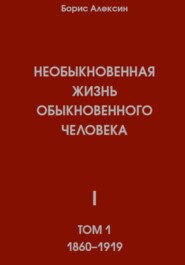 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Боря заторопился домой, ему было немного страшно… Около базара его встретила Поля:
– Где же ты был? Почему так долго? Все гимназисты уже давно прошли. Бабушка беспокоится, вот меня послала тебя встречать, боится, как бы кто тебя не обидел.
Боре стало смешно: Поля была ростом не выше его, и он полагал, что вряд ли она может быть и сильнее, чем он. Он подумал: «Тоже мне защитница!», но вслух этого не сказал, Поля была хорошей, и обижать её не за что.
– Ты же знаешь, что у нас революция! – ответил он.
– А тебе-то что? Ты что, тоже революционер? – засмеялась Поля. – Идём, идём скорее, а то от бабуси нам с тобой достанется, даст она революцию.
Когда Боря и Поля пришли домой, все уже сидели за столом и готовились приступать к обеду. За обедом Боря всё-таки не выдержал и спросил:
– Бабуся, нам в классе Алексей Петрович сказал, что у нас в России революция. Что это такое? На улице все ходят весёлые, как на Пасху.
– Ну не знаю, стоит ли особенно веселиться. Революция – это значит свергли, то есть прогнали царя. С ним было плохо, а вот будет ли без него лучше, не знаю, – задумчиво сказала Мария Александровна.
– А почему прогнали? – недоумевал мальчик.
– Почему, почему? – вмешалась Оля. – Надо было, вот и прогнали.
Боря помолчал, затем снова спросил:
– А кто же теперь царём будет?
Бабуся пододвинула ему тарелку:
– Хватит политики, ешь-ка лучше. Кто-нибудь будет. Пока власть в руках Временного правительства, а что за временное – я ещё и сама толком не разобралась, газет-то за последнее время почти не читаю, всё некогда. А ты ешь-ка, смотри, Женюра уже всё съела, а ты над полной тарелкой сидишь. Прямо на тебя не похоже.
После обеда Боря пошёл к Юзику, и они, забравшись в занесённую начавшими подтаивать сугробами снега беседку, стоявшую в саду, стали обсуждать происшедшее. Юзик тоже уже знал, что в России свергли царя и происходит революция. До сих пор вопросы политики их не интересовали. Кто управляет Россией, как управляет – они не задумывались. Знали, что у нас самый главный – это царь, и в своей детской непосредственности представляли его почти таким же, как когда-то читали в сказках: «Хочу голову рублю, хочу милую…» И полагали, что так было всегда, так будет и так должно быть. Ведь ни в школе, ни в гимназии ничего другого, кроме почтения и преклонения перед царём и его семьёй, им не прививалось. Дома же при детях разговоров на тему революции обычно не вели. Поэтому свержение царя для них было не только непонятно, но и немного страшно. Тем более, что Боря слово «свергли» понимал так, как видел сегодня, когда на его глазах «свергали» царские гербы, сбрасывая их с крыш вниз при помощи топоров, ломов и верёвок.
– Значит, и царя вот так свергли топором или верёвками. Куда же его свергли? Где он сейчас? А где теперь все его дети, жена, дочери, мать и многие другие высочества и разные князья? Их тоже свергли или они остались, а свергли только царя? Что же, теперь не нужно помнить всех их имён и дней рождения? А как же дальше будет? Неужели новых учить придётся?! – это, между прочим, волновало их больше всего.
Целый вечер ребята обсуждали совершившиеся событие на разные лады, но так ни в чём и не разобрались. Попытались они расспрашивать родителей Ромашковича, его старших сестёр, но те отмахивались от них, как от надоедливых мух, и тоже ничего толком не объясняли. В конце концов ребята решили, что взрослые сами ничего не знают.
В какой-то степени их решение было правильным: в этом году весна наступила рано, уже началась распутица, почта в Темников, находившийся в шестидесяти верстах от станции железной дороги, приходила с большим опозданием, конечно, задерживались и газеты.
Утром Боря и Юзик пошли в гимназию. Всех гимназистов, в том числе и учившихся в старом здании, собрали в новом рекреационном зале и объявили, что гимназия идёт на митинг. После этого надзиратели и учителя построили всех парами, вывели их на двор. Во главе процессии встал директор, а рядом с ним инспектор и два гимназиста восьмого класса. Один из них нёс старый трёхцветный флаг, а другой держал ярко-красный. У многих учителей и некоторых старшеклассников на груди красовались красные бантики. Из первоклашек такие бантики были только у двоих или троих, в том числе самый большой – у Кольки Тюрина, сына известного темниковского лавочника. Ни Боря, ни Юзик бантиков не имели, и это было очень обидно. В глубине души Боря решил, что у этой «Тюри»-то он бантик отберёт: «Вот как только распустят, так и сорву. Ишь, задаётся!»
Но их не распускали, а так строем и повели на Новую площадь, где уже собралось много народу. Кроме взрослых, тут были ученики всех школ Темникова. Стояли и солдаты с ружьями, пожарные, рабочие с кирпичного завода и мастеровые. Некоторые из них тоже имели ружья и у всех были красные повязки на рукавах.
Когда колонна гимназистов ступила на площадь, к директору подошёл какой-то человек в кожаной тужурке, тоже с красной повязкой на рукаве и револьвером в кобуре у пояса, и что-то сказал ему. После этого трёхцветный флаг моментально свернули и куда-то убрали.
На крыльце управы, украшенном красной материей, стояли несколько человек. А около крыльца расположился духовой оркестр, игравший разные марши и какую-то новую песню – «Марсельезу». Некоторые рабочие подпевали музыке:
– Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног… –разобрали ребята. Слова незнакомые и не совсем понятные, но бодрый боевой мотив нравился.
Настроение всех собравшихся на площади – приподнятое и радостное – передавалось и ребятам. Обидно только, что их всё ещё держали в строю. Как бы интересно было побегать по всей площади, посмотреть поближе солдат, оркестр и многое другое.
Вскоре на площади установилась некоторая тишина, и с крыльца начали говорить разные люди. Что они говорили, ни Боря, ни Юзик не поняли: во-первых, очень плохо было слышно, а во-вторых, они употребляли так много каких-то неизвестных слов, вроде «эксплуатация», «империализм», «капиталисты», «буржуи», «пролетариат» и т. п., что разобраться в их речах было трудно.
Мальчики поняли только одно, что царя, и всех его родственников, и ещё каких-то министров нет и не будет больше никогда. Что теперь настала свобода и что все должны этому радоваться. Один из солдат, тоже говоривший с крыльца, сказал, что пора кончать войну. Но после него говорили другие, которые кричали, что войну нужно обязательно продолжать, потому что теперь Россия свободная и немцам отдавать её нельзя. И Боря, и Юзик были согласны с последними, они тоже не хотели, чтобы Россию отдали немцам.
Во время выступления одного из ораторов (ребята вскоре узнали, что так называют тех людей, которые кричат с крыльца) Боря увидел Олю. Она с каким-то высоким прыщавым гимназистом несла большой картонный щит, на нём было приколото много красных бантиков. На шее у Оли висела железная кружка, такая же, как в церкви у дверей. На кружке написано: «В пользу раненых». Они проходили по рядам, люди доставали деньги, бросали их в кружку, а Оля прикалывала им бантик, сняв его со щита.
Боря не вытерпел и закричал:
– Оля, приколи и мне!
Девушка услыхала, что-то сказала гимназисту, сняла со щита два бантика, подбежала к Боре и Юзику и приколола на их форменные рубашки по бантику.
Вскоре всем младшим ребятам все эти речи и неподвижное стояние на мокрой и грязной площади надоело, у многих промокли ноги. Кое-кто начал похныкивать. Учителя, поговорив между собой и с кем-то из стоявших на крыльце, которое почему-то стало называться трибуной, получили разрешение увести учеников младших классов и распустить их по домам.
Когда ребят уводили с митинга, Боря рассказал Юзику, что он вчера не видел знакомого городового. И тут они обратили внимание, что и сейчас на площади ни одного городового не было. Раньше, как только собирался народ во время какого-нибудь праздника, на площади сейчас же появлялись городовые, как говорили, для порядка, а сейчас?..
Боря не выдержал и спросил у Бориса Рудянского, с которым был немного знаком и мимо которого их колонна как раз проходила:
– Боря, а где же городовые?
Тот засмеялся:
– Чудак, так ведь революция же! Городовые сидят в кутузке. Раньше они всех сажали, а теперь сами пусть попробуют, как там сладко. У нас теперь народная милиция, видишь людей с красными повязками – это милиционеры, они вместо городовых за порядком следят.
И тут Боря заметил, что и у Рудянского имелась красная повязка, он спросил:
– А ты тоже милиционер?
Юноша гордо усмехнулся:
– А как же, почти весь наш класс вступил в милицию.
– У тебя и ружьё есть?
– Конечно, завтра мы на пост заступаем.
Но тут этот интересный разговор был прерван, шедший впереди надзиратель, заметив, что Алёшкин и Ромашкович задержались и затормозили движение всего строя, обернулся и строго потребовал:
– А ну, господа, быстрее.
Пришлось идти. Учеников первых и вторых классов привели во двор гимназии и распустили по домам, объявив, что занятий по случаю революции не будет три дня. Приятели пошли домой, гордо выпятив груди, на которых горели красные бантики.
В течение неожиданных каникул Боря и Юзик, как, впрочем, и все девчонки и мальчишки их возраста, бегали по городу с митинга на митинг, а они проводились всюду, где только можно было собраться людям: в мужской и женской гимназии, в городском училище и здании управы, на площадях и просто на улицах.
Ребята шныряли между взрослыми, пытались понять смысл речей ораторов, запоминали и старались помогать в пении новых, революционных песен. Мешали всем взрослым, получали толчки и подзатыльники, затевали между собой драки, разбегались при окриках старших, мирились и снова мчались куда-нибудь.
В один из каникулярных дней, вечером, в женской гимназии собрались учащиеся старших классов на свой гимназический митинг. Случайно узнав об этом, на него пробрались и наши приятели. В рекреационном зале на небольшой эстраде поставили стол, покрыли его красной материей, за ним уселось несколько человек гимназистов и гимназисток, их почему-то называли «президиум». Мальчишки подобрались поближе и, устроившись на полу, слушали горячие выступления старшеклассников, клеймивших позором царский режим, что-то яростно кричавших про кровопийцу-царя, про войну, про свободу для всего народа и ещё про многое, многое, что было непонятно и довольно скучно. Наши друзья уже собрались удирать с митинга, но тут началось интересное.
Один гимназист, выйдя на эстраду, вместо речи прочитал стихотворение, за ним стал читать другой, под аккомпанемент рояля одна девушка спела песню, за ней другая, – песни новые, ранее не слышанные. И стало уже совсем интересно, когда почти все присутствовавшие запели хором. Руководил пением незнакомый студент, тут же разучивали и пели и совсем новые песни: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастия ключи…», «Вихри враждебные веют над нами…», «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе…». Повторялись и уже немного знакомые: «Марсельеза» и другие. В пении и ребята принимали посильное участие.
Глава семнадцатая
На здании бывшего полицейского участка вместо герба и царского флага теперь висел красный флаг. На дверях на фанерной дощечке написано: «Народная милиция». Ребята уже знали, что все сидевшие там до революции арестанты выпущены, а на их месте сидят пойманные городовые.
Освобождение арестованных произошло в тот же день, как в Темникове стало известно о революции, то есть четвёртого марта 1917 года. Произошло оно стихийно. В камерах участка находилось несколько человек неблагонадёжных, готовящихся к отправке в Тамбов, несколько крестьян, задержанных за поджог итяковского барина и тоже ожидавших отправки в Тамбов, и два не то вора, не то разбойника.
Освобождены были все, и если неблагонадёжные остались в городе и стали активными участниками происходящих событий, крестьяне-поджигатели поторопились как можно скорее уйти в свою деревню, то два вора скрылись в неизвестном направлении. Вскоре в Темникове участились случаи воровства и ограблений, многие считали, что это действуют выпущенные на волю бандиты.
Может быть, это было и так, но, вероятнее всего, тут действовали и те, кто содержался в тюрьмах и других городов, ведь во всех населённых пунктах губернии, как и в самом Тамбове, освобождение заключённых производилось так же. Кроме того, в них имелись и тюрьмы, а Темников принадлежал к тем редким городам России, где тюрьмы не было.
В памяти Бори Февральская революция (а через несколько лет он узнал, что она именно так и называлась) сохранилась как сплошные митинги и собрания, на которых без конца говорили и пели песни.
В Темникове, как, наверное, и во многих захолустных городках, революция эта прошла бескровно. Все власть предержащие лица пользовались государственными каналами связи, об отречении царя и об образовании Временного правительства они узнали значительно раньше, чем остальные жители города. Понимая, что им может не поздоровиться, эти лица заблаговременно исчезли: земский начальник, становой пристав, городской голова и многие чиновники из полиции и других учреждений ещё до того, как весть о революции дошла до жителей Темникова, куда-то незаметно выехали.
Появился новый председатель управы, в прошлом, кажется, уездный агроном, была создана народная милиция, арестованы остававшиеся в городе городовые. На этом революционные действия и закончились.
Для всех учебных заведений, в том числе и гимназий, особых изменений не произошло. Темнели на стенах классов прямоугольники невыгоревшей краски после снятых царских портретов. В утреннем богослужении перестали молиться о здравии его императорского величества и о даровании ему победы над супостатом, то есть над немецким Вильгельмом, а стали молиться о победе над врагом православного христолюбивого воинства.
Вот, пожалуй, и все перемены, которые пришли в марте 1917 года. Остальные гимназические дела продолжали идти своим чередом. Правда, некоторые учителя стали приходить на уроки не в установленных мундирах, а в обычных пиджаках, да кое-кто из гимназистов старших классов не носил форму. Причём некоторые явно пользовались тем, что стало очень трудно с приобретением материи.
Ждали Пасхальных каникул. Перед ними, как всегда, чтобы получить хорошие отметки за четверть, гимназисты, особенно младших классов, занялись зубрёжкой.
Манкировали занятиями только ученики восьмого класса: часть из них активно ораторствовала на многих митингах и собраниях, иногда проводившихся во время уроков. Некоторые записались в народную милицию, проводили время в разных дежурствах и даже на уроки являлись с красными повязками на рукавах и револьверными кобурами на поясе. Кое-кто, пользуясь ослаблением гимназической дисциплины, пропускал уроки просто из лени, рассчитывая на то, что раз революция, то и в экзаменах будет послабление.
В младших классах дисциплину пока ещё удавалось сохранить, и потому и Боря с Юзиком вынуждены были своё бесцельное шатание по улицам забыть.
На гимназических собраниях, помимо общих рассуждений о революции и пения революционных песен, стали возникать вопросы, касающиеся школьной жизни, и прежде всего приняли решение об изгнании классных надзирателей, о прекращении ведения кондуита (так назывался журнал, заполняемый надзирателями) и об изъятии из программы так называемых мёртвых языков: греческого и латыни.
При обсуждении второго вопроса почти все говорили о том, что эти языки отнимают много времени, а никому не нужны, особенно теперь, после революции. И хотя ученики первого и второго класса этих предметов ещё не изучали, они с таким же единодушием проголосовали за то, чтобы их упразднить, в их числе были и Боря с Юзиком.
Бабуся, узнав о собрании и принятом на нём решении, только руками развела и с возмущением сказала:
– Ну, если теперь ученики сами начнут определять программу своих занятий, то учение пойдёт на славу!
В женской гимназии мёртвые языки не преподавались, и бабуся только понаслышке знала, какая это трудная и скучная вещь, она и сама не раз в беседах с преподавателями говорила:
– Учение этим языкам – лишь пустая трата времени!
Но согласиться с тем, что этот вопрос могут решать сами ученики, она не могла, в её понятии такие действия в корне подрывали школьную дисциплину.
На другой день выборные – гимназисты седьмого и восьмого классов явились с этим решением к директору гимназии Чикунскому. Тот их спокойно выслушал, хотя уже само появление в его кабинете выборных от учащихся явилось случаем необыкновенным, и обещал обсудить (что было ещё необыкновеннее) вопрос на педагогическом совете.
Торжествующие делегаты сообщили товарищам о результатах переговоров с директором, и все были удивлены и обрадованы его покладистостью. В коридорах гимназии несколько дней с жаром обсуждали свою победу. Все считали, что тут, конечно, сыграла роль революция.
Ведь каких-нибудь полгода назад Чикунский не только не стал бы разговаривать с делегатами от учащихся и даже что-то им обещать, он просто их не принял бы. И может быть, им за участие в такой делегации пришлось бы поплатиться пребыванием в гимназии.
Через неделю объявили результаты рассмотрения просьб гимназистов на педсовете. Должности классных надзирателей и кондуит упразднялись, а в отношении мёртвых языков было разъяснено, что этот вопрос может быть рассмотрен при составлении программы на будущий учебный год, а пока их придётся учить и сдавать экзамены.
Хотя требования были удовлетворены и не полностью, гимназисты ликовали: всё-таки это победа. С этого времени авторитет ученических собраний значительно возрос. Им было невдомёк, что ещё до их собрания в мужскую и женскую гимназии от окружного инспектора поступило распоряжение о сокращении штата классных надзирателей и классных дам и о выставлении отметок по поведению ученикам в специальной графе обычного классного журнала.
Так или иначе, но после Пасхальных каникул ни надзирателей, ни кондуита в мужской гимназии больше не было. Хотя по второму требованию и не было получено положительного ответа, многие перестали посещать эти уроки по собственной инициативе. В журналах против фамилий таких злостных лентяев появились жирные двойки и даже колы, но они никого не смущали.
Учитель пения Павел Васильевич Беляев добыл ноты новых революционных песен, сделал аранжировки, и вскоре школьный хор, разучив их, пел и на уроках пения, и на демонстрации Первого мая, проводившейся на улицах города.
В это же время в гимназии организовалось и спортивное общество, названное по предложению учителя гимнастики «Сокол». Душою и организатором этого общества был Борис Рудянский.
Хотя революционные события, вынужденные перерывы и отвлечение от уроков и отразились на дисциплине и прилежании всех гимназистов, в том числе, конечно, и на наших друзьях, весенние экзамены ими были сданы на пятёрки, и их перевели в следующие классы.
Уже в конце экзаменационного периода у учащихся обеих гимназий появилось новое увлечение: почти каждую субботу то в одной, то в другой стали устраиваться литературные вечера и концерты, где читались стихотворения модных поэтов: Надсона, Апухтина, Блока и др., рассказы Чехова, Андреева, Горбунова, Аверченко, Тэффи и даже ставились иногда маленькие сценки.
В организации этих вечеров принимали участие гимназисты и гимназистки старших классов и некоторые наиболее прогрессивные педагоги: Крашенинников, Замошникова. И как ни покажется удивительным, но в развлечениях молодёжи довольно активное участие принимала, несмотря на свой возраст, и начальница женской гимназии Пигута, и к её участию молодёжь относилась очень хорошо.
Вскоре среди участников стали выделяться особенно талантливые исполнители. Одним из таких талантов был Юра Стасевич. Отличаясь музыкальным слухом и хорошими способностями, он вполне прилично играл на фортепиано, к любому мотиву быстро подбирал аккомпанемент и всегда принимал участие во всех концертах как пианист-аккомпаниатор. Чаще других в его помощи нуждалась Оля – гимназистка, жившая у Пигуты. Она неплохо пела и была любимицей публики.
Через несколько дней после майской демонстрации уроки в гимназиях прекратились, все экзамены были сданы, занятия окончились. У ребят появилось много свободного времени, а так как митинги и всякого рода собрания продолжали происходить часто, то мальчишки на них пропадали целыми днями. Это не могло не беспокоить их родителей.
Первым из бездельного шатания по улицам был выключен Юзик Ромашкович. Его отправили в лесничество для участия в начавшихся полевых работах. Почти одновременно с ним в Пуштинское лесничество отправился и Юра Стасевич, куда после окончания учебного года переехала и Янина Владимировна с дочкой Вандой.
Боря Алёшкин остался один, нельзя же считать Женю настоящим товарищем! Во-первых, она девчонка, а во-вторых, с ней просто скучно. И хотя с Володей Армашем тоже игралось не очень-то весело, но других-то друзей не было, приходилось идти к нему.
Играть дома в солдатики, когда на улице тепло и светит яркое солнце, или толочься в маленьком дворике у квартиры Армашей и лишь из-за забора смотреть на других ребят, бегущих куда-нибудь, было тоже выше Бориных сил. А Володю, несмотря на его отчаянный рёв и даже брань, которой он осыпал родителей, дальше двора не выпускали. И Боря у Армашей не задерживался. Однако и уходить далеко от дома не решался, ограничивая свои путешествия Гимназической улицей и дворами обеих гимназий, но и здесь ему удавалось увидеть много интересного: то проходили куда-нибудь солдаты, то проезжали верховые, то на дворе гимназии занимались члены народной милиции, то… Да мало ли было интересного и важного, на что нужно обязательно посмотреть!
Ещё с мая месяца в Темникове, как и во многих других местах, началась подготовка к выборам в Учредительное собрание. В городе появилось много новых людей – агитаторов от различных партий, существовавших тогда в России. Вновь участились собрания и митинги, на которых эти агитаторы, яростно споря друг с другом и восхваляя каждый свою партию, призывали жителей Темникова голосовать за список выборщиков его партии. Мало того, тут же производилась и запись в какую-либо партию, причём в большинстве случаев оформлялось это очень просто: записав того или иного уговорённого человека, агитатор брал с него вступительный взнос – обычно 50 копеек и выдавал записанному листочек, который и заменял партийный билет.
Были такие, кто, записавшись на одном собрании в одну партию, на другом записывался в другую. На одном из таких собраний записалась в партию кадетов и Мария Александровна Пигута. Сделала она это не столько под влиянием горячей речи агитатора и не потому, что многие её знакомые, в том числе и директор мужской гимназии Чикунский и некоторые педагоги оказались в этой партии, а, скорее всего, потому, что, как было известно из газет, во главе этой партии стоял знакомый человек – Милюков, когда-то учившийся в университете вместе с её братом. Она полагала, что этот человек порядочен и честен и будет по-настоящему заботиться о благе России.
В это бурное время почти все педагоги обеих гимназий записывались в различные партии. Записалась в партию эсеров библиотекарь Варвара Степановна Травина, а другая ближайшая помощница Пигуты – Анна Захаровна Замошникова – в партию социал-демократов.
Когда эти три женщины собирались вместе, между ними разгорались бурные дискуссии. Каждая из них, в то время не очень-то разбираясь в существе и программе своей партии, считала своим долгом, поскольку она уже в неё вступила, всячески защищать и горячо доказывать её подлинную революционность и необходимость для России, одновременно стремясь показать, что другие партии никуда не годятся.
Иногда свидетелем таких споров бывал и Боря, больше всего его удивляло то, что и Варвара Степановна, и Анна Захаровна называли бабусю «наш кадет». Мальчик недоумевал: он хорошо знал кадетов и никак не мог понять, как это бабуся может быть кадетом.
Дело в том, что сыновья директора городского училища Оболенского учились в Москве в кадетском корпусе и приезжали на каникулы в Темников. Они ходили в чёрной форме с красными погонами и красными полосами на штанах, всегда очень важничали, держались неприступно, чем, конечно, злили всех городских мальчишек.
И если между гимназистами, учениками Саровского училища и городского существовала постоянная вражда, то с появлением кадетов местные распри на время забывались, и против кадетов ополчались все. Те обычно в драку не вступали ввиду своей малочисленности, а трусливо убегали во двор своего дома и оттуда через забор отстреливались от своих преследователей обломками кирпичей или комками грязи.
Группа преследователей, отойдя на недосягаемое для бросков расстояние, во всю глотку кричала:
– Кадет, кадет! На палочку надет!
Эта дикая серенада прекращалась только с появлением в калитке огромного бородатого дворника с метлой в руке, из-за спины которого выглядывали ненавистные кадеты. Дворник грозно потрясал метлой и хриплым басом кричал:



