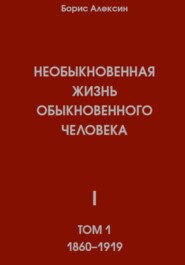 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Всё это обсуждалось на митингах и собраниях, происходивших почти ежедневно в каждой роте, батальоне и во всём полку.
После Февральской революции в 341-м полку, как и во всей армии, произошли определённые изменения. Во-первых, солдаты, обращаясь теперь к офицерам, не должны их называть «ваше благородие» или «ваше превосходительство», а должны – «господин прапорщик», «господин полковник» и т. д. Во-вторых, офицеры лишились права говорить солдатам «ты» и применять физическую расправу к провинившимся. В-третьих, для ограничения прежде ничем не ограниченной власти над солдатами со стороны офицеров создавались солдатские комитеты. В них избирались солдаты, пользовавшиеся наибольшим доверием и уважением своих товарищей, попадали в число избранных и младшие офицеры. В 341-м Восточносибирском полку, о котором у нас идёт речь, прапорщик Алёшкин был избран членом этого комитета.
На полковых митингах выступали ораторы, приезжавшие из штаба фронта, из Петрограда. Почти всегда они были одеты в новенькое обмундирование, иногда сидевшее на них неуклюже, что показывало, что эти люди о войне и об условиях, в которых живут солдаты, имеют очень смутное понятие. Но все эти ораторы требовали продолжения войны до победы. Солдатами эти призывы встречались холодно, а иногда и прямо враждебно. Иногда в полку появлялись и другие ораторы, одетые или в повидавшие виды солдатские шинели, или в замасленные рабочие куртки, они называли себя большевиками и призывали кончать ненавистную бойню. Для этих ораторов официальных митингов не собирали, но солдаты сходились на них сами и слушали эти речи всегда с большим вниманием.
На митингах, кроме солдат, присутствовали и многие младшие офицеры, среди них и Алёшкин. Этим офицерам, выходцам из среды мелкой служилой интеллигенции и рабочих, слова об окончании войны, как и большинству солдат, приходились по душе, они полностью сочувствовали тем предложениям, которые выдвигались ораторами, но пока ещё совсем не ясно представляли себе, как эти предложения можно осуществить.
На одном из таких митингов оратор упомянул о Ленине, руководителе партии большевиков, и заявил, что этот человек, возглавляющий партию, призывает к новой социалистической революции, которая и осуществит все выдвигаемые большевиками лозунги.
До этого приезжие ораторы тоже иногда говорили о Ленине, называя его немецким шпионом, поэтому один из солдат, услыхав снова это имя, спросил:
– Кто же он такой, этот Ленин?
И оратор, в котором по многим признакам солдаты сразу определили рабочего (а впоследствии он это и подтвердил, добавив, что он путиловец), в течение часа подробно рассказывал о Владимире Ильиче Ленине. Он говорил, что только Ленин и руководимая им партия действительно представляют интересы рабочего класса и трудового крестьянства, что только большевики сумеют управлять Россией.
Яков Матвеевич присутствовал на митинге, слушал этот рассказ, и неподдельное чувство восхищения и уважения, сквозившие в каждом слове рассказчика, когда он говорил о Ленине, называя его вождём мирового пролетариата, невольно захватило Алёшкина и всех слушателей.
К середине 1917 года командир полка имел уже прямое указание от генерала, командовавшего дивизией, о немедленном разгоне солдатских сборищ, как именовались такие митинги, и аресте большевистских агитаторов для предания их военно-полевому суду.
Но полковник Васильев, хотя в душе и восставал против таких митингов и речей, на них произносимых, стоял к солдатской массе ближе, чем генерал, и прекрасно понимал, что даже только попытка разгона, уже не говоря об аресте агитатора, может вызвать такое озлобление солдат полка, что и ему самому, и всем старшим офицерам придётся из полка удирать. А так как он не был уверен в большинстве младших, то предпочёл делать вид, что ничего не замечает, стараясь жить по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры».
В конце мая 1917 года от 341-го полка, как и от других воинских частей, была избрана делегация из нескольких солдат для поездки в Питер, где должен был происходить Первый съезд Советов, чтобы самим узнать, что же это за Советы.
Тогда же по указанию Временного правительства эсеровские и меньшевистские агитаторы вели усиленную агитацию за проведение в ближайшее время обширного наступления. Одним из главных доводов являлось утверждение, что успешное наступление будет последним ударом, который окончательно сломит сопротивление врага: немцы запросят мира, и война окончится.
Временному правительству наступление было необходимо по двум причинам. Во-первых, этим невольно оттягивалась часть войск противника и облегчалось положение союзников, что поднимало престиж в глазах Антанты Временного правительства. Во-вторых, оно представлялось выходом из создавшегося правительственного кризиса: успех наступления поднимал авторитет Временного правительства и его главы Керенского; провал, если таковой последует, можно свалить на большевиков и получить повод для расправы над ними.
Всего этого многие, в том числе и Яков Матвеевич, не знали. Они поняли это гораздо, гораздо позднее. А в то время они верили в то, что решительный удар по немецким войскам сможет привести к быстрому окончанию войны, и революционная Россия наконец получит долгожданный мир.
Это наступление началось 8 июня 1917 года. Плохо стратегически подготовленное, необеспеченное необходимым количеством боеприпасов, при неверии в его успех большинства солдат и офицеров – оно провалилось. Только на одном Юго-Западном фронте потери русских войск составили более 60 000 убитыми и ранеными, а каких-либо, даже тактических успехов это наступление не дало.
341-й полк, захвативший в первый день боёв две линии немецких траншей, потерял при этом почти половину своего состава. Но, не получив необходимой поддержки соседей, под давлением контратаковавшего противника, вынужден был вернуться в свои прежние окопы, которые с большим трудом сумел удержать.
Возвращение совершалось настолько поспешно, что едва успели унести с собой раненых. В числе последних находился и командир второй роты прапорщик Алёшкин, это было его третье ранение. Пуля из немецкого пистолета пробила насквозь грудь, задев край легкого и плевру, но не повредив при этом крупных сосудов, бронхов и костей. Раненого эвакуировали в госпиталь в город Пензу, где он и находился на излечении до конца декабря 1917 года.
Сведения об Октябрьской революции в Пензенский госпиталь пришли с опозданием дней на двадцать. А когда 2 декабря 1917 г. в Пензе установилась советская власть, раненые узнали о первых декретах этой власти – «О мире» и «О земле» и прочли их, госпиталь разделился на два враждебных лагеря. Один, состоявший в основной массе из солдат, признал и комиссара, и начальника госпиталя, назначенных новой властью, и полностью одобрил порядки, заводимые ими; некоторая часть младших офицеров, хотя ещё и не понимала всей сущности советской власти, но присоединилась к солдатам. Другая часть, в основной массе – старшие офицеры, представители дворянства и интеллигенции, встретила новые порядки в штыки, и хотя на открытое сопротивление не решилась, но постаралась как можно скорее стены госпиталя покинуть.
Алёшкин беспрекословно подчинился этим изменениям и потому благополучно закончил лечение к 23 декабря. В этот день он прошёл врачебную комиссию, предоставившую ему трёхмесячный отпуск. Он получил соответствующие документы, деньги на проезд, свое починенное обмундирование, Георгиевские кресты и наган, сданные им при поступлении в госпиталь на хранение.
По дороге в Забайкалье к семье после госпитального лечения Яков Матвеевич решил обязательно заехать в Темников: повидать сына и договориться с бабусей о его дальнейшей судьбе. Брать Борю с собой в столь дальний путь в такое неспокойное время, когда он и сам ещё не был уверен в благополучном прибытии домой, он не решался.
И вот он в тёплой, светлой гостиной Марии Александровны Пигуты слушал рассказы своего сына об ученье в гимназии, обо всех темниковских мальчишеских новостях, о приключениях в лесу у Стасевичей, о «войне», происходившей в столовой Армашей, о неуловимых бандитах и о многом другом, что волновало, да, пожалуй, волнует и сейчас мальчишек в одиннадцать лет.
Выслушал он также и рассказы бабуси о внуке, о его способностях и отличных успехах в учёбе и о его неряшливости и беспокойном поведении в гимназии; о его доброте и строптивости, о его неуёмной жадности к чтению, способности глотать книги и о невероятной лени в других делах.
Из рассказов бабуси Яков Матвеевич понял, что Мария Александровна души не чает во внуке и что расстаться с ним ей будет, очевидно, тяжело; и он ещё больше укрепился в своём мнении, что брать с собой сына, когда он даже не знает, где и как будет работать и на что будет содержать семью, не следует. Он сказал об этом бабусе. Надо было видеть, с какой радостью старушка восприняла известие о том, что Алёшкин пока не забирает Борю. Она так опасалась, что зять потащит «этого несносного неряшку и грубияна», бывшего, однако, ей дороже её собственных детей, в неведомую дальнюю дорогу. Она, конечно, ответила согласием держать Борю у себя как можно дольше, «до конца своей жизни», как сказала она, даже и не предполагая, что её слова будут пророческими, и Боря действительно пробудет у неё до самого конца её жизни.
Яков Матвеевич тоже обрадовался такому обороту дела. Его семейные дела были ещё очень неустроены. Находясь в госпитале, он получил письмо от жены о том, что она ожидает второго ребёнка, и пока просто не представлял себе, как они будут жить. Его офицерского жалования, часть которого он ранее по аттестату переводил семье, теперь не стало. Вероятно, Аня сейчас сидит без копейки денег, а у него их так мало, что едва хватит на дорогу самому, где уж тут ребёнка с собой везти. Да он ещё и не представлял точно, где он сможет найти работу по приезде домой.
Правда, он считал, что на базе того склада, в котором он служил до войны, можно было бы организовать кооператив и продолжать снабжать сельскохозяйственными машинами окружающие Верхнеудинск сёла и деревни. Но неизвестно, как к этому отнесутся местные власти и что осталось там от склада. Одним словом, всё ещё совершенно неясно и неопределённо.
Яков Матвеевич не знал, что у него уже родился второй сын: он ждал этого известия, но оно поступило в госпиталь тогда, когда Алёшкин выписался. Не знал он и того, что, не дождавшись ответа на известие о рождении сына и не зная, когда муж вернётся домой, Анна Николаевна окрестила ребёнка и назвала его в честь любимого ею Бори также Борисом (она ведь не предполагала, что когда-нибудь в их семье вновь появится старший сын Якова Матвеевича). Таким образом и появился в семье Алёшкиных второй Борис Яковлевич Алёшкин (младший), моложе своего брата на десять лет.
Слушая рассказы Бори и Марии Александровны о темниковских новостях, он, в свою очередь, рассказал им то, что описано частично в начале этой главы. Одновременно Яков Матвеевич поделился новостями, которые услышал в пути из Пензы до Темникова. Новости эти для Марии Александровны Пигуты были ошеломляющими.
Дело в том, что уже несколько недель никто из темниковских подписчиков не получал никаких газет. Первое время этому не очень удивлялись: в осеннюю и весеннюю распутицу почты неделями не бывало в городе и раньше, а потом стали возмущаться, но сделать всё равно ничего не могли. Подписчикам и в голову не приходило, что все солидные газеты закрыты и никогда в России существовать не будут.
Отсутствие газет оторвало Темников, стоявший далеко от железной дороги, от событий, происходивших в стране, и потому большинство жителей, в том числе и начальница женской гимназии, могли питаться только слухами, завозимыми приезжим человеком. В это тревожное время все обыватели как-то обосабливались друг от друга, и даже хорошие знакомые новостями особенно не делились.
Окружающие Марию Александровну чиновники из педагогов (директор мужской гимназии, заведующий городским училищем и другие) с ней не дружили, и потому новостей, которые доходили до них, она не знала. Её ближайшие друзья – Травина, Замошникова, Стасевичи и Армаши – сами знали не очень много, и рассказ Якова Матвеевича для неё явился откровением. Она ужаснулась тому, что все видные, с её точки зрения, политические деятели и даже такой ультралевый революционер, как Керенский, были изгнаны или арестованы, и власть попала в руки каких-то совсем неизвестных людей.
Она, как и многие интеллигенты того времени, полагала, что эта власть долго не удержится и что, если там действительно засели какие-то авантюристы или, ещё того хуже – немецкие шпионы, как в то время называли этих людей газеты, то положение в России будет очень тяжёлым, и, по всей вероятности, произойдёт новое кровопролитие.
Яков Матвеевич считал, что никакого нового переворота не будет, что вряд ли будет и кровопролитие, пытался в этом убедить и свою тёщу, но этого ему сделать так и не удалось. Как бы то там ни было, а сошлись на одном: Борю сейчас из Темникова никуда везти не следует.
Об этом пребывании Алёшкина Мария Александровна в одном из своих писем, рассказывающем о тех материальных трудностях, в которых очутилась, сообщила Дмитрию Болеславовичу. Правда, сделала она это спустя длительное время, тогда, когда уже и в Темникове была советская власть. Письмо датировано третьим марта 1918 года: «…Алёшкин проследовал к себе в Сибирь на Рождество, хочет заниматься кооперацией, открыть отделение по продаже сельскохозяйственных орудий, где он думает быть заведующим…».
Яков Матвеевич задерживаться у тёщи не мог, кругом было неспокойно. Новая советская власть ещё не всюду сумела овладеть властью на самом деле. Ходили слухи о том, что железнодорожники её не признают, и что поэтому в любой момент может быть прервано железнодорожное сообщение по всей России. А ему нужно было ехать до Верхнеудинска, куда и в мирное-то время поезд шёл 9–10 дней, а сколько придётся ехать сейчас? При той неразберихе и разрухе, которая царила на транспорте и на которую он нагляделся даже на коротком пути от Пензы до Темникова, Яков Матвеевич считал, что до дома едва ли доберётся за месяц. Ему надо было спешить. Тем более что денег у него осталось очень мало.
И хотя Мария Александровна и Боря, а позже узнавшие о его приезде Шалины, уговаривали погостить в Темникове хоть несколько дней, Яков Матвеевич согласиться на это не мог и уже 26 декабря 1917 года выехал.
Вскоре после отъезда зятя Мария Александровна поделилась полученными ею новостями со своими подругами и друзьями, высказала им свои сомнения и предположения и чуть было из-за них не рассорилась с лучшей своей помощницей Анной Захаровной Замошниковой, которая считала, что наконец-то в России появилось настоящее народное правительство и что теперь оно всё приведёт в должный порядок.
Споров и мнений разных по этому вопросу среди знакомых Пигуты было очень много, но все сошлись на одном, что сами они служат не царю, не Керенскому и какому-нибудь другому правительству, а русскому народу, свои знания и труд отдают на его пользу, и потому, какое бы правительство сейчас у власти ни было, они свои просветительские обязанности будут выполнять по-прежнему честно и добросовестно.
* * *В конце марта 1918 года пришло письмо от зятя. Алёшкин сообщал, что, против ожидания, доехал вполне благополучно и быстро. Вот это письмо:
«28.01.1918.
Дорогая бабуся! Доехал я сравнительно благополучно, дома нашёл всех здоровыми и сытыми. Сам, вероятно, тоже буду скоро служить в кооперативе заведующим с/х складом. В общем, здесь, за Байкалом, ещё можно и служить, и жить относительно спокойно. Правда, жизнь тоже стала значительно дороже прежней, но не так безумно дорога, как у Вас в России. В городе Верхнеудинске я пробыл только день, подал заявление в кооператив и получил увольнение от воинского начальника, а теперь буду жить пока в Богорохоне и поправляться. В феврале я пошлю некоторую сумму денег для Бориса, а там до поступления на службу буду высылать каждый месяц. В крайнем случае, если у Вас там будет слишком голодно и слишком опасно, то не забывайте, что я Вас и Борю жду с радостью сюда.
Ну пока, крепко Вас обнимаю. Ваш Я. Алёшкин».
Это письмо было последним, полученным Марией Александровной от своего зятя. Дальше в стране развернулись такие события, что связь с Сибирью совершенно прекратилась, и, конечно, ни писем, ни обещанных денег она так и не получила.
* * *Дмитрий Болеславович Пигута оставлен нами, когда он, похоронив сестру и убедившись в том, что её младшими детьми занялись родственники их отца, второго мужа сестры, а старшего взяла к себе бабушка, смог наконец уделить время и своей семье.
Он, как в своё время и в Медыни, продолжал служить в земской управе санитарным врачом и, как и там, успел нажить немало врагов среди промышленников и торговцев.
Город Кинешма и весь уезд в то время были одним из центров прядильно-ткацкой промышленности, на окраинах города находились десятки мелких фабричек и заводов, было несколько и крупных мануфактур, имелось достаточно лавок и лавчонок. Случаев для споров с санитарным врачом всегда находилось более чем достаточно: нарушения санитарных правил допускал чуть ли не каждый хозяйчик, загрязнения промышленными отходами мелких рек и речушек, впадавших в Волгу, производились самым беззастенчивым образом; грязь и ужасающая антисанитария в рабочих бараках и посёлках вызывали высокую заболеваемость и смертность, особенно среди детей. Это вызывало со стороны Дмитрия Болеславовича возмущение и стремление как-то сократить вопиющие нарушения минимальных санитарных норм, но это требовало огромной энергии, постоянного нервного напряжения и массы времени.
К нервному напряжению на службе присоединилось и то, что разлад в его семье нарастал. После рождения ребёнка – мальчика, названного Костей, которому было суждено стать единственным её сыном, Анна Николаевна Пигута не только не обрела спокойствия духа, но, наоборот, жестоко обидевшись на мужа, пренебрегшего ради больной сестры и матери своим супружеским долгом и ради них не присутствовавшего при её действительно тяжёлых родах, почти возненавидела всех его ближайших родственников, и в первую очередь мать и сестёр.
Обида эта усугублялась тем, что Дмитрий Болеславович, теперь почти не скрываясь, посылал довольно значительные деньги не только сестре Лёле, но и матери – на содержание Бори, и матери Мирнова – на содержание младших детей Нины. Эти суммы отрывались от более чем скромного семейного бюджета и, конечно, значительно ухудшали материальное положение семьи.
Несмотря на то, что и Дмитрий Болеславович, и Анна Николаевна работали, вследствие растущей дороговизны и значительной утечки средств на помощь родственникам мужа они действительно концы с концами сводили с большим трудом.
Анна Николаевна работала в это время сестрой милосердия в военном госпитале, постоянно находилась среди молодых людей, способных ухаживать за каждой мало-мальски интересной женщиной. Она же в свои двадцать девять лет стройной фигурой и довольно яркой красотой привлекала внимание многих и всегда находилась в окружении поклонников – выздоравливающих офицеров. Желая как-то отомстить мужу, продолжавшему сорить деньгами, содержа чуть ли не всех своих «бедных родственников», Анна Николаевна флиртовала с этими молодыми людьми и, хотя держала всех своих обожателей на расстоянии, нервы мужу этим трепала порядочно. Тем более что, рассказывая о своих «победах» ему, преувеличивала и их значение, и их глубину, надеясь этим вернуть его интерес к себе, своей семье… Она продолжала любить своего Митю и считала его самым лучшим человеком, но не умела бороться за свою любовь.
После Февральской революции Дмитрий Болеславович Пигута восстановил свои связи с партией эсеров, и в новом земстве, уже как член управы и уездный санитарный врач, стал занимать более солидное положение. К своим служебным обязанностям он стал относиться ещё более серьёзно и строго. Теперь он почти целыми днями пропадал в командировках на различных промышленных предприятиях или в земстве, участвуя в различных заседаниях и совещаниях. Эта бурная деятельность так его захватила, что он с весны 1917 года совсем забросил свою семью и почти перестал писать матери, хотя деньги время от времени ей и переводил.
Те фабриканты и заводчики, а также и управляющие их предприятиями, которые раньше с санитарным врачом и разговаривать-то не хотели, в его претензиях видели прямое ущемление своих интересов и, как правило, почти всегда находили себе поддержку в высоких уездных или губернских кругах, теперь скрепя сердце были вынуждены принимать члена уездной земской управы Пигуту достаточно вежливо, покорно выслушивать его замечания, и, если и не выполнять его требования немедленно, то, во всяком случае, давать клятвенные заверения, что все отмеченные недостатки будут в ближайшее время устранены.
Кинешемский промышленный район, так же, как и Ивановский, имел большое количество текстильных предприятий, и, естественно, на них находилось большое количество промышленного пролетариата, поэтому не удивительно, что и в Кинешме, и в Иваново-Вознесенске, наряду с управами, подчинёнными Временному правительству, организовались так же, как и в столицах, Советы рабочих депутатов. И что интересно: требования земского врача, направленные на устранение каких-либо санитарных нарушений на том или ином предприятии, часто не принимались во внимание управой, но всегда встречали поддержку Совдепа. Дмитрий Болеславович заметил это и всё чаще стал обращаться за помощью в Совет, чем, конечно, вызвал возмущение и у земских деятелей, и у своих партийных коллег.
Волна Октябрьской революции, начавшись в Петрограде 25 октября 1917 года (по ст. стилю), до Кинешмы докатилась буквально за несколько часов, и 27 октября в Кинешме, так же, как в Ярославле, Костроме, Иванове и некоторых других городах промышленного центра России, рабочими и солдатами, находившимися там, лозунг «Вся власть Советам!» был полностью осуществлён.
Буржуазные органы самоуправления: земства, городские управы и тому подобные учреждения, сохранявшиеся при Временном правительстве, не имея никакой опоры среди основной массы населения этих городов, сдали власть Советам почти без сопротивления. Так и в Кинешме: власть к совдепу перешла без каких-либо эксцессов. Большая часть отделов земства упразднилась, вместо них были созданы новые, во главе которых встали представители рабочего класса, многие из которых были большевиками.
После ликвидации уездной земской управы перестал работать и Дмитрий Болеславович Пигута: в совдепе должности санитарного врача не имелось. Семья существовала только на заработок Анны Николаевны и попала поистине в бедственное положение. Дмитрий поехал в Рябково к отцу, который помог продуктами питания. Тогда же пришлось организовать небольшой огородик за сараем, в котором работал сам Дмитрий Болеславович.
Так длилось до июня 1918 года, когда при Кинешемском совдепе организовался отдел здравоохранения, главой его был назначен врач Круглович, знакомый с Пигутой. Вспомнив энергичного и преданного своему делу человека, Круглович предложил ему возглавить всю санитарную работу в городе и уезде. Дмитрий Болеславович согласился, с этого времени он и стал вновь служить своему любимому делу и вскоре, как он сам говорил, буквально через несколько дней, убедился, что только эта власть смотрит на дело здравоохранения по-серьёзному, по-настоящему.
Почти сразу же после установления советской власти в Кинешме произошли определённые изменения и в госпитале, в котором служила Анна Николаевна Пигута. В течение нескольких дней из госпиталя исчезли почти все офицеры, за исключением только очень тяжёлых больных, исчез кое-кто из врачей, но основная масса служащих осталась на месте и, хотя и с некоторым страхом, встретила прибывшего в госпиталь комиссара, одетого в простую солдатскую шинель; на его предложение продолжать служить в госпитале, который теперь стал называться Первым Кинешемским советским военным госпиталем, ответила согласием. Осталась служить в должности сестры милосердия и Анна Николаевна. Начальником госпиталя назначили бывшего ординатора одного из отделений – Николая Васильевича, молодого врача, между прочим, одного из поклонников Пигуты.
* * *Установление советской власти в Кинешемском уезде, в том числе и в Рябково, произошло немного позднее, чем в самом городе, но к середине декабря 1917 года Советы организовались и там.
Ещё с конца 1915 года распоряжением уездных властей больница в Рябково была занята под лазарет для военнопленных чехов. У них имелся свой врач и несколько человек охраны из русских солдат. Старый доктор Пигута вёл амбулаторный приём в оставленной ему амбулатории, стационарных больных вынужден был помещать в маленькую адищевскую больничку. Кроме того, он работал и как член уездной комиссии здравоохранения, организованной при Кинешемском земстве.
Четвёртого февраля 1917 года в усадьбе Рябково от небрежного обращения больных военнопленных с огнём произошёл пожар. Никаких противопожарных средств в самой усадьбе не было; пока приехала пожарная команда из Судиславля и собралась пожарная дружина села Рябково, весь старый помещичий дом сгорел дотла, а следовательно, сгорели и лазарет, и те несколько палат, в которых работал Болеслав Павлович Пигута, сгорела и его квартира.



