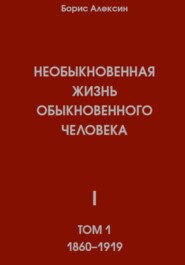 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
В тревогах и трудах время шло. Нина сдала весенние экзамены, и, так как выглядела очень уставшей и похудевшей, было решено принять приглашение её матери, которая уже не один раз повторяла его, и поехать летом в Темников.
Курсы Якова Матвеевича на лето закрылись, а на работе при содействии дяди, вытащившего его в столицу, работавшего уже помощником мастера, Алёшкин сумел получить отпуск, конечно, без всякой оплаты.
Ехать к матери, не повенчавшись, Нина Болеславовна не могла, а на венчание в Петербурге не было денег. И тут опять помог дядя Якова Матвеевича. Он посоветовал поехать в посёлок Осташково, где жили родственники со стороны его жены, давно знавшие Якова, и там при их содействии в сельской церкви повенчаться. Это обойдётся недорого и, главное, что тоже имело значение, будет сделано быстро.
Так и решили, тем более, что это было по дороге.
30 июня 1906 года в церкви посёлка Осташково Новоторжского уезда Тверской епархии и состоялся обряд венчания мещанина города Брянска Якова Матвеевича Алёшкина с девицей, слушательницей С.-Петербургского института (так к тому времени были переименованы Высшие медицинские женские курсы) Ниною Болеславовной Пигутой, что и записано в соответствующую церковную книгу под № 14.
Обвенчанным была выдана выпись из метрической книги, скреплённая церковной печатью и подписанная священником Львом Толмачевским и диаконом Арсением Митропольским. Теперь супруги Алёшкины, уже будучи вполне законными мужем и женой, могли показаться в любом месте и ехали в Темников с чистой душой и спокойной совестью.
Узнав о решении Алёшкиных (будем теперь так их называть) провести часть лета в Темникове, Мария Александровна и Даша очень обрадовались. Конечно, сразу же началась деятельная подготовка к приёму гостей. А те не заставили себя долго ждать, и в один прекрасный июньский день к дому на Богуславской улице подъехала пара каурых лошадей, запряжённых в тарантас, из которого выскочили Нина и Яков Матвеевич. Захватив небольшие саквояжи из тарантаса, они тут же оказались в объятиях Марии Александровны и Даши.
Яков Матвеевич понравился Марии Александровне. Вежливый, скромный молодой человек, может, Нине надо бы чуть-чуть постарше, ведь он моложе дочери на два года, но, в конце концов, это не так уж страшно. Ему, конечно, не хватало не только того лоска и воспитанности, которые Мария Александровна привыкла видеть в окружавших её людях, но даже и знания простых правил поведения, известных в самой обыкновенной интеллигентной семье. И вместе с тем он так умел себя держать, что даже в затруднительных случаях не был смешным и не вызывал неприятного чувства. Его промахи иногда немного и шокировали Марию Александровну, но она их охотно прощала.
Пришёлся по сердцу Яков Матвеевич и Даше, которая прониклась к нему большим уважением.
Нина, вначале немного побаивавшаяся встречи мужа, простого мужика, как он себя называл, со своей благовоспитанной и благородной матерью, была очень рада, что всё так хорошо обошлось. Она приписывала, и не без основания, всё это способностям своего мужа и гордилась им.
Радостно на сердце Нины было и оттого, что, сдав отлично все экзамены и перейдя уже на четвёртый курс, освободившись от трудной работы в клинике, она отдыхала от тяжёлой петербургской зимы и душой, и телом. Ей сейчас не нужно целыми днями находиться в аудиториях, клиниках или операционной, иногда на пустой желудок и почти в постоянной тревоге за Яшу; всё время думать: где он, ел ли, а как завтра организовать обед и прочее. Освобождённая от всех забот и волнений, Нина быстро поправилась, оживилась и через каких-нибудь две недели опять превратилась в весёлую задорную хохотушку.
Пришёл в себя после всех петербургских передряг и переживаний и Яков Матвеевич, или, как вскоре все его стали называть, «наш Яшенька». Наверное, сейчас и пришло время рассказать про него поподробнее. До сих пор мы были с ним знакомы только весьма поверхностно.
Итак, Яков Матвеевич Алёшкин-Карпов был сыном брянского мещанина Матвея Карповича Карпова-Алёшкина, происходящего из крепостных людей помещика Брянской губернии, некоего Карпова, и получившего в наследство от него добавление к своей фамилии. Оставшись в 1861 году после царского манифеста об освобождении не только без барина, но и без земли, семейство Алёшкиных-Карповых, находясь в отчаянной бедности, быстро распалось, и младшие его члены направились вместе с тысячами им подобных безземельных крестьян в поисках хлеба насущного в разные места земли русской. Отец Якова Матвеевича добрался до города Брянска, там сумел поступить на Брянский бондарно-ящичный завод, ценился, приписался в мещане и в 1885 году произвёл на свет единственного сына Якова.
Братья Матвея Карповича разъехались по всей России, а их было пятеро – судьба трёх из них осталась неизвестной, где-то затерялись они на широких российских просторах, а о двух сведения были. Один добрался до самой столицы – Санкт-Петербурга, поступил там на завод, и к нему-то, как мы знаем, приехал потом Яков Матвеевич. Другой, Сергей Карпович, был самым старшим, он отважился отправиться в дальние сибирские края, добрался до самого Владивостока и, как говорили, даже ещё дальше, хотя уж дальше-то, кажется, было и некуда. По дошедшим до родственников слухам, он там женился на местной жительнице, дочери богатого поселенца, и получил в наследство чуть ли не имение. Но вот уже много лет от него никаких вестей не было.
Матвей Карпович в описываемое нами время ещё жил в Брянске. Он давно схоронил свою жену, умершую при родах, когда вместе с нею погиб и их второй сын, не успевший и объявить о своём появлении на Божий свет даже первым криком.
Покрутились осиротевшие отец с сыном несколько лет вдвоём, а когда подрос Яков, решил отец отправить его к брату в столицу, чтоб пристроил на завод мастерству учиться. Так Яков Матвеевич с 1902 года оказался в Петербурге, работал на заводе Фридрихсона и учился на курсах механиков. А Матвей Карпович с тех пор жил совсем один.
Как и многие рабочие, Яков Алёшкин чувствовал на себе всю несправедливость существовавшего порядка: его не раз штрафовали за самые пустячные провинности, заставляли, когда это было нужно хозяину, работать и по 12, и по 14 часов в сутки, он вынужден был покупать почти всё необходимое в заводской лавке, при этом переплачивать за покупаемые товары, которые были к тому же низкого качества. Он почти каждую получку должен был ублажать своего мастера, иначе тот нашёл бы массу поводов и причин, чтобы или оштрафовать его, или лишить выгодной работы, а то и подвести под увольнение. Одним словом, ему была вполне знакома жизнь, которую в то время вынуждены были вести тысячи рабочих.
Правда, с тех пор, как Якова Матвеевича приняли на курсы, и он стал работать только восемь часов, он как бы поднялся в мнении мастеров и их помощников, отношение этих господских прислужников к нему изменилось. В какой-то степени этому способствовало и продвижение по службе его дяди.
Яков, как мы уже говорили, не был профессиональным революционером, не состоял ни в какой партии, даже не очень охотно и регулярно посещал собрания и митинги, которые в 1905 году на заводе происходили часто, но он всё время вращался в рабочей среде и вместе со своими товарищами переживал все трудности и перипетии революционных бурь 1905 года.
Попав в Темников и очутившись совершенно в другой обстановке, где не было никакой нужды, где можно было беспечно, бездумно проводить дни в безделье и отдыхе, выпавшие для него, пожалуй, первый раз в жизни, Яков Матвеевич вначале даже несколько растерялся. Но затем молодость взяла своё, ведь ему был только 21 год, и Яков Матвеевич, забыв про все невзгоды и тяготы, которые только что ежедневно сопутствовали ему в жизни, отдался целиком отдыху. Также безмятежно отдыхала и Нина Болеславовна.
Большое удовольствие обоим супругам доставило и новое знакомство, которое они завели в Темникове, это знакомство вскоре переросло в дружбу.
Это было знакомство с семьёй Стасевичей, кстати сказать, с этим семейством была очень хорошо знакома и дружна Мария Александровна. Иосиф Альфонсович Стасевич, окончив в 1904 году Петербургский лесной институт, Главным лесным управлением Министерства земледелия был назначен на должность заведующего Пуштинским лесничеством, контора которого, как и двух других лесничеств, находилась в Темникове.
Перед выездом из Петербурга Иосиф Альфонсович женился на слушательнице тех же самых женских медицинских курсов, на которых училась и Нина Пигута, – Янине Владимировне Боровицкой, с которой был знаком ещё в детстве.
Янина Владимировна происходила из семьи родовитого польского шляхтича, имевшего где-то под Варшавой имение, а Иосиф Альфонсович был сыном мелкого чиновника. Понятно, что этот брак не вызвал одобрения со стороны Боровицких, которые в своё время протестовали и против учения Янины Владимировны, поэтому супруги поехали в Темников, где и решили самостоятельно построить свою жизнь.
Курсы Янина Владимировна закончила ещё в 1905 году, но в связи с реорганизацией в их институте диплома пока не получила и числилась зауряд-врачом, что давало ей право работать под руководством дипломированного врача, но не давало права на самостоятельную практику.
Диплом она не получила также и из-за беременности и, уезжая в Темников, решила, что сдаст оставшиеся экзамены и получит диплом после рождения ребёнка. К приезду Алёшкиных она уже имела 3-месячного сына Юрия. Конечно, ни о какой поездке в Петербург теперь уже думать было нельзя, нужно было ждать, пока сын хоть немного подрастёт. Чтобы не забыть всё, чему её учили, она решила работать в земской больнице хотя бы бесплатно. Рудянский с удовольствием её взял, так как работы у него было очень много, да и надеялся он вскоре получить разрешение на вторую врачебную должность.
Последние месяцы перед родами и после Янина Владимировна не работала. Муж её, будучи занят строительством конторы и своего жилья на территории лесничества, в девяти верстах от Темникова, дома бывал редко, и спасение от скуки она нашла в книгах библиотеки. В библиотеке познакомилась с Варварой Степановной, а через неё и с Марией Александровной Пигутой. Узнав от Травиной нелёгкую судьбу Пигуты, прониклась к ней сочувствием и уважением, а потом они подружились.
Познакомился с Марией Александровной и её муж, Иосифу эта образованная и общительная женщина тоже понравилась, а ещё больше сблизило их то, что её муж был поляком, как и они.
Конечно, как только Нина и Яков появились в Темникове, то их сейчас же познакомили и с Варварой Степановной, и с обоими Стасевичами. Молодые люди быстро сошлись и часто проводили время вместе, то гуляя по окрестностям Темникова, то выезжая в Пуштинское лесничество, в недостроенный ещё дом Стасевичей, проводя там в лесу чудесные дни.
В этих прогулках принимали участие и Мария Александровна, и Даша. А в их квартире часто устраивались концерты, в которых принимали участие все. Особенно выделялся Иосиф Альфонсович, у него был не очень сильный, но приятный тенор, а у Нины – недурное сопрано. Аккомпанировала им обычно Мария Александровна, а в последнее время и Янина Владимировна. К этой компании присоединялся и гимназический учитель пения Пётр Васильевич Беляев, отлично игравший на скрипке.
Между прочим, в связи с рождением сына со Стасевичами произошла довольно интересная история. Стасевичи были католиками, а в Темникове, конечно, ни ксендза, ни костёла не было. Родившегося сына они собирались воспитывать в своей вере и, конечно, крестить его по правилам католической Церкви. Поэтому для крещения Юрия пришлось выписать из Москвы католического священника, что наделало немало шума в переполненном православным духовенством Темникове. Тем более, что по странному стечению обстоятельств все лесничие в Темникове были поляками: в Харинском – Ромашкевич, а в Саровском – Лазаревич. У них также рождались дети, но они, зная, что православное вероисповедание в России даёт ряд преимуществ, крестили своих детей в православных церквях.
Стасевичи так сделать не захотели и этим в какой-то степени восстановили против себя не только местное духовенство, но и своих земляков. Эта история подняла Стасевичей в глазах Марии Александровны, уважавшей всякую принципиальность, и ещё больше сдружила её с этой семьёй.
Глава шестнадцатая
В это же время Алёшкины познакомились и тоже подружились ещё с одним человеком: это была юная девушка-гимназистка, жившая у Марии Александровны.
Дело в том, что и Мария Александровна, и Даша в своей большой квартире чувствовали себя довольно одиноко и как-то одновременно пришли к заключению, что одну из комнат можно будет сдать кому-нибудь из нуждающихся гимназисток. И в доме будет веселее.
И вот, в 1906 году у них поселились две девушки, только что окончившие шестой класс гимназии. Одна из них, дочь волостного писаря из села Атюрево, по национальности мордовка, на лето уезжала домой, а вторая – дочь местного сапожника, Анна Шалина, в это лето жила в доме Пигуты и, естественно, принимая участие во всех развлечениях и путешествиях молодёжи, сдружилась и с Ниной, и с Яковом Матвеевичем.
Для поселения у себя Мария Александровна выбирала наиболее способных и наиболее бедных девушек, обычно приезжих. Аня Шалина – очень способная ученица, была местной, темниковской, и к Пигуте попала в виде исключения, и вот почему.
Отец её, как мы уже говорили, был сапожником, жил он со своей женой Анной Никифоровной в маленьком собственном домике на окраине города, у самого кладбища. Смолоду отличаясь высоким мастерством по изготовлению сапог, полусапожек, сапожек и ботинок, он обшивал почти весь чиновный люд города Темникова и пользовался заслуженной славой. Его обувь была достаточно красивой, удобно сидела на ноге и, главное, была до чрезвычайности прочной, а это многими ценилось больше всего. Благодаря этому Шалин всегда имел хороший заработок и, можно сказать, жил в достатке.
Женившись, он построил домик, открыл в нём небольшую сапожную мастерскую, взяв в помощь себе двух подмастерьев. К нему в подручные шли охотно, во-первых, потому что платил неплохо, во-вторых, потому что у него было, чему поучиться, и в-третьих, потому, что он, в отличие от других мастеров, тайны из своего ремесла не делал и делился своим умением даже с удовольствием.
Всё шло хорошо: через год после свадьбы родилась дочь, её назвали Верой, а ещё через год родилась и вторая дочь – Аня.
Анна Никифоровна хлопотала по хозяйству, ухаживала за огородом и растила дочек. Девочки уже окончили начальную школу, и скоро старшую отдали в учение к местной портнихе, а когда через два года окончила школу и Аня, причём лучшей ученицей, то родители задумались о продолжении её образования. Николай Осипович Шалин хлопотал перед местным городским начальством, следовательно, ему пришлось сшить не одну пару сапог из своего лучшего товара, а Анна Никифоровна обратилась к самой Новосильцевой. Благодаря вмешательству попечительницы, главным образом, и удалось дочке сапожника Анне Николаевне Шалиной поступить в Темниковскую женскую прогимназию, а с открытием гимназии перейти и в неё. Сыграли в этом роль и её недюжинные способности.
Поступление Ани в гимназию для семьи Шалиных было большой радостью и большой гордостью. Отец её не раз говаривал:
– Знай наших, и из сапожников тоже в люди выходят!
Сам-то он окончил сельскую двухклассную школу, и, хотя расписывался с трудом, зато читать любил. Читал больше «божественное», а самой любимой его книжкой было «Житие святого и преподобного Серафима Саровского», может быть, потому, что в ней описывалась жизнь простого крестьянина, превратившегося в святого человека и основавшего монастырь, в котором и сам Николай Осипович бывал на богомолье неоднократно. Этот прославленный монастырь находился в сорока верстах от города, а Серафим Саровский пользовался среди темниковских жителей особым почётом.
Анна Никифоровна, как и большинство простых женщин того времени, была неграмотна. Образованность младшей дочери не только умиляла и радовала, но и заставляла мать относиться к ней с каким-то особым уважением.
Благодаря блестящим способностям и большому трудолюбию Аня выделялась своими успехами среди других гимназисток, а так как она имела добрую душу и общительный характер, то у большинства своих сверстниц пользовалась и уважением, и дружбой.
Было, правда, несколько девочек, дочек местных богатеев и знатного духовенства, которые смотрели на неё косо. Не любила её и мадам Чикунская, которую возмущало то, что в такие учебные заведения, как гимназия, начали пролезать «люди низкого звания», даже дети сапожников. Выручала Аню её отличная учёба и, конечно, то, что она была протеже самой Новосильцевой. Сама Аня этого недоброжелательного отношения не замечала и, как все дети, росла весёлой и живой девочкой.
К сожалению, счастье на свете никогда не бывает долговечным, так произошло и с Аней. В 1903 году в Темников приехал на жительство один предприимчивый купчик, сынок известного московского обувщика Семиглазова, и открыл магазин, в котором началась широкая продажа самой различной обуви – от красивых сапог и ботинок до самых модных туфель. Там были и лаковые сапоги, были и специальные – со скрипом, и венские, с резинками, козловые полусапожки – мечта темниковских модниц, были и господские штиблеты на ранте, и для дам – туфли и ботинки самых наимоднейших фасонов.
Вся эта обувь стоила дешевле, чем сшитая у Шалина или других местных сапожников, кроме того, она была и красивее, и изящнее и, самое главное, она была московская, а кому же не лестно пройтись по улицам Темникова или какого-нибудь села Атюрева или Анучина в московских сапогах, да ещё с галошами! А то, что московские сапоги изнашивались в два, а то и в три раза быстрее, чем обувь, сшитая Шалиным, смущало далеко не всех. Не смущало покупателей и то, что магазинная обувь часто жала и натирала ноги, зато она была модной.
Появление этого магазина сразу же сказалось на заработках всех местных сапожников, в том число и на заработках Шалина. Количество заказов у него резко уменьшилось и продолжало уменьшаться дальше. Почти все сапожники Темникова перешли на работу по починке магазинной обуви и как-то этим сводили концы с концами. Но Шалин, гордый своим мастерством, на этот путь не встал. Он и раньше чинил только обувь собственного изготовления, а теперь чинить эту городскую дрянь – нет, увольте! Шалин продолжал принимать заказы только на изготовление новой обуви, а их становилось всё меньше. Семья начала испытывать нужду, подмастерьев уж давно рассчитали, работы не хватало и самому. И уже в 1904 году сапожник Шалин целыми днями был вынужден просиживать без дела.
В довершение несчастья он пристрастился к вину. И если раньше он выпивал только по праздникам, и выпивал в меру, то теперь он пил почти каждый день, стал напиваться и бушевать дома, стал пропивать вещи и даже инструмент и колодки.
В конце 1903 года шестнадцатилетняя Вера была отдана замуж за богатого булочника Мордвина, а через год отец нашёл жениха и пятнадцатилетней Ане. Он потребовал, чтобы девушка бросила гимназию (тем более, что за учение платить всё равно было нечем) и выходила замуж за одного из приказчиков Семиглазова, который обещал выхлопотать у хозяина заказы на обувь для продажи через магазин и которому гимназистка очень приглянулась.
Напрасно дочь и жена просили его одуматься и не губить будущую жизнь дочери: Николай Осипович не хотел слушать никаких уговоров и уже назначал день свадьбы – после Покрова, в октябре месяце.
Анна Никифоровна собралась с духом и бросилась в ноги к Новосильцевой, умоляя её спасти дочь, Новосильцева рассказала обо всём Марии Александровне Пигуте, и они решили помочь девушке. Мария Александровна попросила зайти Шалина, конечно, выбрав момент, когда он был относительно трезв, заказала ему ботинки для себя, Даши и Поли и, расположив этим его к себе, начала разговор о дочери. Вначале все её уговоры Николай Осипович встретил категорическим отказом, но потом, когда она ему сказала, что Аня по разрешению Новосильцевой освобождается от платы за обучение и что полное содержание её на время учения попечительница берёт на себя, а это значит, всё время учения в гимназии Аня будет жить в доме Пигуты как её воспитанница, Шалин согласился.
Правда впоследствии, будучи пьяным, он не раз приходил к Марии Александровне и требовал отдать ему дочь, но его удавалось выпроваживать, а трезвым он извинялся за свои поступки.
Вот таким образом и оказалась Анюта Шалина в числе лиц, живших в 1906 году в семье Марии Александровны Пигуты.
Аня очень переживала своё положение, ей было стыдно за отца, но она считала, что единственный способ помочь семье – это скорее окончить гимназию и стать учительницей. В этом её поддерживали Пигута и мать, навещавшая её еженедельно, хорошо познакомившаяся с Марией Александровной и от души полюбившая её.
Аня в шестнадцать лет выглядела так: невысокая тоненькая девушка с большими голубыми глазами, светло-каштановыми волосами, собранными в толстую косу, с приветливой улыбкой на губах, всегда готовая всем помочь и услужить. За год своего пребывания у Пигуты она привыкла и привязалась к ней так, что готова была за неё в огонь и в воду, да и Мария Александровна полюбила эту скромную, услужливую и способную девушку и относилась к ней как к родной дочери.
Подружилась Анюта и с Дашей и часто помогала ей в разных домашних делах, с интересом обучаясь у неё всяким кулинарным и хозяйственным премудростям.
Не могла, конечно, юная Анюта остаться в стороне от всех тех развлечений, которыми сопровождалось пребывание в Темникове Алёшкиных, и с удовольствием принимала участие и в прогулках, и в купании на Мокше, и в катании на лодках, и в поездках в лесничество, и во всех прочих развлечениях. Только на домашних концертах ей доставалась роль зрительницы: она любила музыку, но сама ни петь, ни играть на чём-нибудь не умела.
Как бы то ни было, но постоянное пребывание в компании молодых супругов Алёшкиных помогло Ане сблизиться с ними и подружиться с обоими.
Так незаметно промелькнуло это темниковское лето 1906 года для всех жителей квартиры Пигуты, и кажется, никто не успел ещё и погулять как следует, как пришло время Алёшкиным ехать в Петербург. Перед отъездом молодых Мария Александровна имела с обоими серьёзный разговор. Она заявила, что получает большое жалование и что вполне в состоянии им помогать, пока Нина не окончит институт. По её мнению, Нина должна немедленно бросить всякую работу и отдать все свои силы только учению. Молодые люди, хотя и пытались возражать, но доводы матери были настолько убедительны и настойчивы, что им пришлось подчиниться.
Яков Матвеевич только оговорился, что эта помощь ими будет приниматься до тех пор, пока не окончит учение не Нина, а он. Он должен был окончить свои курсы летом 1907 года, а Нина оканчивала институт в 1908 году. Мария Александровна с этим согласилась.
* * *Поселившись в маленькой квартирке у Нарвской заставы, супруги Алёшкины, отдохнувшие и окрепшие за лето, приступили к своим занятиям с удвоенной энергией и желанием. Яков Матвеевич вернулся на завод и продолжил занятия на курсах. Нина Болеславовна, имея возможность всё своё время отдавать учёбе, пропадала в клиниках и больницах. У неё началась самая интересная, но, пожалуй, и самая трудная пора – познание и приобретение практических навыков в медицине. И тут она с благодарностью вспомнила трудные дни работы в клинике Фёдорова, где она была простой сестрой. Эта работа дала ей большую подготовку. С благодарностью она вспоминала и своего отца, который ей много рассказывал во время её пребывания на каникулах в Рябково в дни её ранней юности. Сейчас эти рассказы ей тоже часто бывали кстати.
Так прошла осень. Супруги были счастливы и, несмотря на то, что работать приходилось много, довольны своей жизнью.
В январе 1907 года Нина убедилась, что она беременна. Она подозревала это и раньше, но надеялась, что ошибается. Ей очень не хотелось иметь сейчас ребёнка, ведь ещё надо учиться весь 1908 год, а как она сможет это сделать с ребёнком, она просто не представляла. Сказав о своём положении мужу, Нина не преминула высказать и огорчение по этому поводу.
– Да как тебе не стыдно, Нинка! Ведь это же так здорово: у нас будет сын, ты понимаешь, сын, обязательно сын! – ликовал Яков Матвеевич. – Ты у меня молодец! Надо обязательно написать Марии Александровне (тёщу он звал по имени-отчеству), вот она-то обрадуется, ведь это у неё первый внук будет! Завтра же напишу.
Нина Болеславовна не разделяла восторга Яши, она продолжала задумываться: «Ну рожу, а дальше? Брать прислугу, а на что? Яша получит назначение, уедет. А как тут я буду с малышом? Он не думает, рад как ребёнок. Конечно, ему что? Но что же делать, аборт? Да ведь это подло – убить своего ребёнка, Яков никогда не согласится. Да и мама будет очень недовольна. Видно, придётся рожать», – так думала Нина, сидя за своими конспектами.



