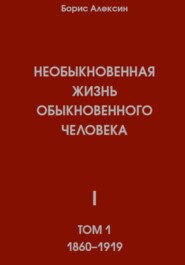 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
– Если вы серьёзно хотите заняться хирургией, я вам помогу. Я помню вас по работе в своей клинике, и мне кажется, что из вас выйдет толковый врач, но, конечно, не сразу. Прежде чем ехать в какую-нибудь земскую больницу и там начинать колбасить в своей хирургической практике (он так и сказал – колбасить), я вам посоветую вот что. Оставайтесь-ка в Петербурге хотя бы на год, ну, хотя бы у меня в клинике, поработайте под руководством опытных хирургов, а уж потом и в провинцию. Большого жалования я вам не обещаю, ну а так, чтобы не голодать, наскребём. Подумайте.
Нина, конечно, и думать не стала, а со свойственной ей быстротой сразу же с благодарностью приняла его предложение и вот, к 15 сентября должна была быть в Петербурге. Время подходило, а она ещё не решила, как же быть с Борей: оставлять его опять у мамы неудобно, а брать с собой в Петербург невозможно. Ведь держать няньку в Петербурге стоит очень дорого. Квартиру надо будет сменить, а это тоже не так просто… А тут ещё и Яков пишет, чтобы Борю воспитывала она сама. Ничего он не понимает! Однако, что же делать?
Мария Александровна, зная, что Нина должна уезжать, начала готовить Борины вещи и со слезами на глазах пересматривала и перебирала все штанишки и рубашечки, которые они вместе с Дашей шили и подлаживали этому малышу. И ей почему-то всё больше и больше не хотелось отпускать его от себя.
Таким образом, обе женщины об одном и том же думали, и думали именно так, как это устроило бы обеих, а сказать об этом друг другу не решались. И кто знает, как бы всё это обернулось, если бы не помог случай.
Церковь Иоанна Богослова, находившаяся в двух–трёх минутах ходьбы от квартиры М. А. Пигуты, стояла на холме, обращённом одной стороной к реке Мокше, а другой к базарной площади. Вокруг храма была небольшая ограда, а вокруг неё – красивая зелёная лужайка. С этого холма открывался чудесный вид на заречные дали, и ребятишки близлежащих домов всегда играли на этом зелёном холме. Больше всего они любили запускать отсюда змеев, которые, подхваченные восходящими потоками воздуха, идущими от реки, красиво и долго неподвижно парили в высокой прозрачной голубизне.
Любила бывать на этой лужайке и Мария Александровна, а последнее время на ней часто можно было видеть и Нину с сыном. Она обычно сидела на разостланном пледе и что-нибудь читала или смотрела в беспредельные дали заречных лугов и на курчавую дубраву Санаксарского монастыря, поглощённая своими думами, а Боря бегал тут же, перебегая от одной к другой группе играющих ребятишек, или, запрокинув головёнку, любовался очередным змеем.
В этот солнечный сентябрьский день всё было как обычно: Нина Болеславовна читала, а в одном из углов лужайки группа ребят готовила к запуску огромного змея. Смастерил его великий мастер этого дела, гимназический дворник Егор, который был поставщиком этой игрушки для всех ребят, живших в близлежащих от гимназии домах. Был он и сам большим любителем запуска своего сооружения. И в этот раз, установив змея, имевшего аршина два в поперечнике, по ветру и удерживая его за длинный мочальный хвост, он помогал одному из мальчишек.
Наконец, змей запущен, он стал набирать высоту, суровая нитка звенела от напряжения, она была намотана на оструганную деревянную палочку длиною около четверти аршина. Нитка размоталась почти вся, змей находился так высоко, что выглядел со спичечную коробку. Мальчишки воткнули палочку – «шпулю» с ниткой в землю, а сами уселись вокруг неё и с интересом наблюдали, как змей от ветра раскачивался чуть ли под облаками.
Всё время около этой кучки ребят вертелся и Боря. Когда змей был запущен, Егор пошёл домой, а мальчик побежал к своей маме. Он не заметил натянутую нитку от змея и наткнулся на неё. Наткнулся так, что нитка захлестнула ему шейку. Он упал, шпуля выдернулась из земли, и змей, удерживаемый только тяжестью ребёнка, поволочил его по земле к краю холма, обрывисто спускавшегося в сторону реки.
Боря, вскрикнув, замолчал, зато подняли отчаянный крик ребятишки, первыми увидевшие эту страшную картину. Вскочила и закричала Нина, но, растерявшись со страху, никто из них не бросился на помощь. Услыхал эти крики и Егор, уже спускавшийся с холма на улицу. Он обернулся, увидел, что Боря катится по земле, влекомый толстой суровой ниткой, удерживавшей змея. Мгновенно оценив всю опасность, которой подвергается малыш, дворник, забыв про свою старость, в два прыжка очутился около мальчика. Подхватив его одной рукой, другой схватился за нитку, подтянул её ко рту и перегрыз, после чего змей, взмыв к облакам, стал падать куда-то в сторону реки. Затем оборвав другой конец нитки, привязанный к волочащейся по земле шпуле, Егор передал ребёнка матери, которая, опомнившись, заливаясь слезами, подбежала к месту происшествия. Нина подхватила сына и, проталкиваясь сквозь толпу ребятишек и женщин, сбежавшихся на крики, бросилась к дому.
На шее Бори виднелась красная полоска, из неё торчали концы суровой нитки, и ползла тоненькая струйка крови.
Пока Нина бежала к дому, он пришёл в себя и громко заплакал. Несколько минут в доме Марии Александровны царил невероятный переполох: громко плакал Боря, рыдала Нина Болеславовна, причитала няня Марья, сама бабуся, взяв внука на руки, пыталась как-то успокоить его и в то же время рассмотреть, что у него за повреждения. Даша бегала по двору в поисках посыльного. Наконец, она поймала сынишку Егора и приказала ему бежать что есть силы и отнести записку доктору Рудянскому в больницу. Записку эту уже успела написать Мария Александровна.
Через час на больничной лошади приехал Алексей Иванович Рудянский. В те времена никакой скорой помощи не существовало, и всякий врач, вызванный к больному, имел в своём саквояжике всё самое необходимое на все случаи. Конечно, так было и у доктора Рудянского, спешившего на вызов Пигуты. Вбежав в комнату и немного отдышавшись, он приступил к осмотру Бори. Убедившись, что кроме ранения шеи у мальчика никаких других повреждений нет, он решил извлечь нитку немедленно.
Выпроводив из комнаты всех домашних, кроме Даши, которая, как он заметил, больше других сохранила самообладание, он приступил к операции. Даша взяла Борю на руки и уселась с ним на стул к одному из окон гостиной. Тот, увидев доктора, замолк и лишь слегка всхлипывал, видимо, не столько от боли, сколько от страха.
Алексей Иванович вновь осмотрел рану, выяснил, что нитка не повредила ни одного из жизненно важных органов шеи, и попытался выдернуть её, потянув за один из торчащих концов. Это было больно, Боря вновь громко заплакал и стал вырываться из рук Даши.
Прикрикнув на свою помощницу, чтобы держала ребёнка крепче, Рудянский смазал шею мальчика йодом и, сделав небольшой надрез, наконец-таки извлёк нитку. Завязав рану бинтом, он объявил, что, по-видимому, всё в порядке и что недели через две его пациент будет здоров. Боря тем временем успокоился и, видя, что доктор убирает все свои страшные вещи в чемодан, совсем перестал плакать.
Перед уходом, прощаясь с Марией Александровной и пряча в карман причитающийся гонорар, Рудянский сказал, что мальчика необходимо ежедневно привозить к нему в больницу на перевязки, что рана будет заживать недели две. В глубине души доктор был не очень уверен в своём прогнозе, нитка была грязной, выпачканной в земле, и он опасался нагноения, да, пожалуй, и ещё более страшного осложнения – столбняка. Но так как сделать что-либо ещё не мог, то и не стал говорить никому о своих опасениях. Прививок от столбняка в то время не делалось.
Заживление раны шло хорошо, температура у Бори продержалась всего два дня, ранка была чистая и больного особенно не беспокоила. Он играл, был весел и подвижен, как обычно, и, если бы не поездки в больницу на перевязки, он, наверное, и совсем забыл бы про своё ранение.
Однако в доме это происшествие забыть не могли, особенно переживала бабушка. Мария Александровна, зная, что Нина в Петербурге будет одна, будет занята новой сложной работой, вынуждена будет оставлять ребёнка на целый день на чужих руках, была этим очень обеспокоена:
– Да и молода она, ветрена… Была с ним рядом, а доглядеть не сумела, чуть не покалечили мальчишку. А в Петербурге столько народу, столько всяких ужасов: и конка, и трамваи, а теперь ещё вон какие-то автомобили ездят. Долго ли до греха? Нет, не отдам я ей Борю, как она хочет, пусть ещё хоть немного подрастёт. Да и куда ему сейчас в дорогу, после такого потрясения? Завтра же поговорю с Ниной», – так говорила Мария Александровна своей верной наперснице Даше. Та, конечно, была с ней целиком согласна.
И вот как-то вечером за несколько дней до Нининого отъезда женщины сидели в гостиной. Мария Александровна обдумывала, как начать разговор с Ниной, как убедить её оставить Борю. Особенно трудным это ей казалось сделать и потому, что Яков Алёшкин в своих письмах всё время настойчиво просил Нину взять сына к себе.
Разговор начала Нина.
– Мама, Боря ещё болен, Алексей Иванович говорит, что за ним надо наблюдать ещё дней десять, пятнадцать. Я же дольше задерживаться не могу. Профессор может обидеться и потом совсем не взять меня, а это будет для меня, вернее для моих знаний, невосполнимая потеря. Яков не знает обстановки, но я думаю, что он меня поймёт, когда я всё ему расскажу. Так вот, я и решилась попросить тебя: оставь Борю ещё на зиму у себя, а там и я уже устроюсь, и он окрепнет после этой несчастной травмы. Конечно, если это не будет тебе очень тяжело.
Мария Александровна и Даша переглянулись:
– Ниночка, дорогая, – воскликнула радостно Мария Александровна, – да мы только и думаем, как бы Бореньку от себя не отпустить. Пусть остаётся и на зиму, и на год, ведь он для нас единственная радость! Ты о нём не беспокойся, Яше я напишу, думаю, что сумею убедить его, что для Бори так лучше будет. Мы для него всё, что надо, сделаем, пожалуйста, не беспокойся!
Мария Александровна была искренна – она действительно очень не хотела, как мы знаем, отпускать внука, она думала, что ему здесь будет лучше. Она его любила, и ей самой тяжело было с ним расстаться.
К сожалению, не думала она лишь о самом Боре, не взвешивала того, что важнее: хороший уход и материальное благополучие, или повседневная материнская ласка. Не думала Мария Александровна о том, каково будет мальчику, потерявшему мать чуть ли не с самых первых дней жизни, через год нашедшему её, терять вновь, причём на срок, гораздо более длительный, чем предполагали и мать, и бабушка. Считалось, что он слишком мал и что пока ничего не понимает, а потому отсутствие матери для него будет незаметно. На самом деле было не так.
Боря, конечно, не мог сознавать того, что мама, его мама – слово, которое он уже начал произносить, опять покинула его и надолго, но он инстинктивно чувствовал, что все окружавшие его женщины хотя и добры, и ласковы, и любят его, всё-таки не мама. Чувство какой-то неосознанной обиды так и осталось в нём.
После отъезда матери он ещё долго ходил по комнатам и как будто кого-то искал, был грустен и молчалив, хотя до этого часто и много лопотал что-то на своём, пока ещё не всем понятном языке.
Со временем он стал веселее, а вскоре, когда приехала и снова поселилась у бабуси Аня Шалина, как будто и совсем забыл мать.
* * *По окончании путешествия по Москве и Петербургу, которое было рассчитано на 15 дней, Аня Шалина, не желая возвращаться в квартиру Пигуты, чтобы не встречаться с Ниной и её сыном, приняла приглашение одной из своих подруг, дочери управляющего имением итяковского барина, и до начала занятий в гимназии гостила у неё.
С началом занятий Аня, или, как её теперь следовало величать, Анна Николаевна Шалина – новая учительница гимназии, должна была переселиться в Темников. Жить у себя дома она не могла. Её отец продолжал пить, пропивая остатки своей мастерской и даже личные вещи жены.
С этим Аня могла бы ещё примириться, хотя и это имело значение для её авторитета среди учащихся и, главное, среди их родителей, но было ещё и другое.
Николай Осипович Шалин не оставил мысли о том, чтобы выгоднее выдать замуж свою вторую дочь. Наоборот, со временем эта мысль всё более и более овладевала его воображением. Прежний жених уже давно нашёл себе другую невесту и женился на ней.
– Да за такого голодранца, – как говорил Шалин в кругу своих собутыльников, – я теперь свою дочь и не отдал бы. Ведь она образованная, гимназию окончила, и не как-нибудь, а с золотой медалью! Теперь я меньше чем на купца или чиновника и не соглашусь.
И нашёлся один такой – пожилой вдовец, работавший в канцелярии уездной управы, получавший солидное жалование, не брезговавший и «благими даяниями», то есть попросту взятками, как это тогда широко практиковалось во всём чиновничьем мире, имевший свой дом и желавший жениться на образованной девушке, пусть даже из бедной семьи. Поэтому стоило только Ане показаться отцу на глаза, как он начинал требовать её повиновения и заставлял выходить замуж за этого нового жениха.
Аня ни о каком замужестве не хотела и думать и просила только одного: чтобы отец оставил её в покое, обещая отдавать в семью почти всё своё жалование.
Анна Никифоровна была целиком на стороне дочери, но сдерживать настойчивые требования мужа ей становилось всё труднее. Поэтому, вернувшись из Итяково, Аня первым делом стала искать себе квартиру. Сделать это в то время в Темникове было нетрудно, и в этот же день она договорилась с одной женщиной о найме комнаты. Затем она отправилась к Марии Александровне, чтобы взять свои вещи, которые ещё находились там, рассказать о том, как она устроилась, выяснить, когда она должна приступать к службе, и, пожалуй, самое главное – посмотреть Борю. От своей матери она знала о происшедшем с ним приключении, а также и о том, что Нина Болеславовна опять оставила сына у бабуси.
В квартире Пигуты Аня была встречена как долго отсутствовавший член семьи. А Боря, увидев её, залез к ней на колени, да так и не слезал весь вечер. Он прижимался к ней, твердил «мама, мама», и, только уложив его в постель, Аня смогла наконец рассказать Марии Александровне о своём положении и невозможности жить дома, сказала она и о снятии комнаты. Та и слушать об этом не хотела:
– Да как тебе не стыдно, – говорила она, – у меня стоит совершенно пустая комната, ждёт тебя, а ты, видишь ли, комнату где-то снимать надумала! И не придумывай, матушка, оставайся у меня. А Боря? Разве ты не видишь, как ты ему нужна? Ведь мы с Дашей старухи, а ему хочется, чтобы с ним молодая женщина была, вроде матери. Да и для тебя удобнее: два шага до гимназии, и я под боком, если чем-нибудь помочь на первых порах надо будет. Нет-нет! Располагайся в своей комнате, и никаких разговоров!
Ане Шалиной и самой очень хотелось остаться у бабуси, и долго её уговаривать не пришлось.
Через несколько дней началась обычная трудовая жизнь. Старая и молодая учительницы с утра бежали в гимназию, Даша хлопотала по хозяйству, Боря под присмотром няни Марьи играл в детской или в палисаднике. Вечера Аня, закончив проверку тетрадок, проводила с Борей, а тот с каждым днём становился интереснее и забавнее. Иногда вместе с ними коротала вечера и Мария Александровна.
Мальчик всё более и более привязывался к Ане Шалиной, да и она полюбила его как собственного ребёнка.
Глава вторая
Контора, в которой служила машинисткой Елена Болеславовна Неаскина (урожд. Пигута), принадлежала французской фирме, торговавшей различными предметами женского туалета и имевшей в Петербурге свои магазины. После 1906 года в обеих столицах появились магазины и других фирм: английских, бельгийских и немецких. Все они торговали такими же товарами. Конкуренция привела к значительному снижению доходов французской фирмы. Стремясь сохранить их, а при возможности и увеличить, руководители конторы стали принимать меры к привлечению покупателей в провинции. Однако открывать магазины в небольших городах фирме было невыгодно, поэтому решили вести реализацию своих товаров через местных торговцев.
Для оформления комиссионных договоров с владельцами мелких магазинов набрали штат специальных агентов, развозивших образцы товаров и заключавших договоры на их продажу. На должность таких агентов набирались молодые разбитные люди, обычно младшие сынки петербургских купцов, которые с охотой шли на эти должности. Надежд на наследство у этих купеческих отпрысков было маловато, всё доставалось старшим. Дома их заставляли работать приказчиками в лавках отцов, держали под строгим контролем и суровым домашним присмотром, а тут получалась полная свобода и неплохой заработок. Были это молодые люди, умевшие красиво говорить, выглядевшие весьма презентабельно и довольно элегантно, так как подбирались и по внешнему облику.
Вот в одного такого агента-коммивояжёра и влюбилась тридцатилетняя Елена Болеславовна, жившая уже почти два года в одиночестве. Ваня (так звали этого молодца) был хорош собой: высок, строен, с чёрными, всегда подвитыми и надушенными усами, с красивыми вьющимися чёрными кудрями и большими карими глазами. Заметив склонность, проявляемую к нему старой девой, как между собой звали эти шалопаи машинистку конторы, он не преминул использовать своё положение.
Через два месяца после знакомства Ваня поселился в комнате Неаскиной, и они зажили как муж и жена. На оформлении брака она не настаивала по той причине, что была уже замужем, а официального развода не имела и даже не знала, где находится её законный муж.
А Ванечке это было на руку. Сожительствовать с молодой, ещё красивой, всегда очень элегантно одетой, образованной и сравнительно неплохо обеспеченной женщиной и не быть формально ничем с нею связанным – для людей такого рода, как этот вертопрах, было чуть ли не идеалом жизни.
Ванечка – младший сынок одного из небольших петербургских купцов, не сумевший из-за лени и бесконечных кутежей и гулянок окончить даже коммерческое училище. Он был легкомысленным и довольно пустым человеком. Под его красивой внешностью и некоторым лоском скрывалась неприглядная натура. Елена ничего этого не замечала и считала, что она наконец-таки обрела своё счастье. Они и на самом деле первое время были как будто счастливы. Так длилось около года.
Но вот в конце 1907 года Елена забеременела, а летом 1908 года и родила. Появился третий член семьи – маленькая дочка Женя. Молодая мать вынуждена была оставить службу. Материальное положение семьи резко ухудшилось, пришлось продавать остававшиеся вещи, но бедность неумолимо надвигалась. Ваня вытерпел около года, а затем в один далеко не прекрасный день он, смотревший на связь с Еленой как на нечто временное, заявил, что ещё слишком молод, чтобы обзаводиться детьми, собрал свои вещички и был таков.
Об этой связи ни отцу, ни матери до сих пор Лёля ничего не сообщала, заранее зная, что одобрения за этот поступок она не получит ни от одного, ни от другого. С отцом она совсем не переписывалась, а матери посылала короткие открыточки, главным образом, к праздникам. Более или менее регулярную переписку она поддерживала с братом Митей, но и ему подробностей о своей связи не открыла. И только забеременев, сообщила, что, кажется, нашла своё счастье и ждёт ребёнка.
После ухода Вани у Неаскиной сложилось такое безвыходное положение, что она решилась обратиться за помощью к отцу. В сентябре 1909 года Дмитрий Болеславович Пигута получил письмо от отца, к которому прилагалась и отчаянная просьба о помощи от Лёли. Она признавалась отцу, что сошлась с молодым человеком, от которого у неё родилась дочь. Сообщала она также, что её второй муж, с которым она жила, не венчавшись, её бросил. Она просила отца приютить её с дочерью хотя бы на год, пока дочка подрастёт, и она сможет идти работать.
Не отвечая дочери, Болеслав Павлович написал сыну: «Дорогой Митя! Посылаю тебе письмо Лёли. Уведомь её, что потакать её развратному поведению я не намерен. Денег ей не вышлю и приезжать в Рябково не разрешаю. Папа. 15 сент. 1909 г. Рябково».
Прочитав письмо отца, и Митя, и Анюта были очень удивлены. Особенно таким отношением к родной дочери была возмущена Анюта, однако, когда её муж предложил взять на время Лёлю к себе, она также решительно запротестовала. Переубедить жену Дмитрий не сумел и решил сделать по-другому. Он взял за месяц вперёд жалование, перевёл деньги сестре. Сообщая о переводе, он рекомендовал Лёле поехать с дочкой к матери в Темников, обещая помогать им обеим материально.
Давая такой совет, он ничего не сказал жене, чем ещё больше вооружил её против них. Кроме того, он недостаточно взвешивал и свои ресурсы. Дело в том, что, относясь к своей профессии санитарного врача несколько идеалистически, он считал, что только высокая принципиальность, серьёзная требовательность к выполнению всех правил и положений санитарного надзора в состоянии обеспечить действительное оздоровление населения.
Он, однако, совершенно не учитывал, что его деятельность происходила в условиях бюрократически-чиновничьего царского строя и что даже самые ближайшие начальники его этой принципиальности не понимают и не одобряют, а те, от кого он требовал безукоризненного выполнения санитарных правил, вообще смотрят на него как на чудака. Все эти гласные городской думы, почётные и именитые граждане города Медынь, в большинстве своём лавочники, владельцы всевозможных кустарных мастерских и предприятий считали, что должность санитарного врача – это должность чиновника при земстве, который должен шуметь по поводу невыполнения каких-то там не очень известных правил, но должен и немедленно прекращать всякие разговоры на эту тему, как только ему сунут на лапу. Поэтому стоило только Дмитрию Болеславовичу обнаружить у кого-либо из этих хозяйчиков какой-либо непорядок, как ему предлагалось солидное угощение, а то и просто совали барашка в бумажке, как тогда ласково называли взятку. Когда же санитарный врач с гневом отвергал это подношение и всё-таки составлял соответствующий протокол, по которому приятели этих хозяйчиков, заседавшие в городской управе, скрепя сердце вынуждены были их штрафовать, причём иногда на крупную сумму, то в лице такого хозяйчика и его друзей он приобретал серьёзных врагов.
За свою недолгую бытность в Медыни он врагов нажил немало. Земское жалование санитарному врачу было, видимо, в своё время и определено, исходя из учёта порядочных побочных доходов, потому оно было невелико. Лечебной практикой Пигута не занимался, Анна Николаевна не работала, так как Медынь был слишком маленьким городком, и для сестры милосердия места не было. Все ранее полученные деньги ушли на всевозможные приобретения, связанные с поселением на новом месте, так что даже при большом хозяйственном умении Анюты, заложенном в ней с детства, они едва сводили концы с концами. Между прочим, именно это положение и заставило её так категорично протестовать против приезда Лёли к ним.
Получив телеграмму Мити, а вслед за нею и деньги, Елена Неаскина быстро собралась и, даже не уведомив предварительно мать, выехала в Темников. Первого октября 1909 года она вместе со своей годовалой дочкой явилась к Марии Александровне. Мать очень обрадовалась приезду дочери с внучкой и встретила их с распростёртыми объятиями. Дорогим гостям она отдала свою спальню, сама переселилась в комнату Даши, а Даша стала спать в столовой.
Всё это делалось в расчёте на то, что Лёля приехала в гости, и что через две–три недели уедет в Петербург. Мария Александровна и не предполагала, что дочь брошена и вторым своим мужем и что в данный момент она без работы, а ребёнок её фактически без отца. По существовавшим законам дочь Елены Болеславовны формально считалась дочерью её первого мужа, носила его фамилию и отчество. В свою очередь, Елена, видя, что мать о её положении ничего не знает, не торопилась рассказывать о своём несчастье, надеясь, что всё это потом как-нибудь утрясётся.
Но через неделю всё раскрылось: пришло письмо от Мити. В этом письме он описывал всё происшедшее с Лёлей, рассказал о её неудачной попытке просить помощи у отца и сообщил так же, что это новое безрассудное увлечение старшей дочери и его последствия рассердили Болеслава Павловича и привели его в такое большое душевное расстройство, что он заболел и настолько сильно, что вынужден был слечь в постель.
Сетовал Митя и на то, что возле больного отца нет никого из близких. Сам он не может оставить работу, а отец нуждается в заботливом уходе. Ведь ему уже более шестидесяти лет, добавлял он. Возвращаясь в конце письма снова к положению сестры, Митя просил мать оставить Лёлю пока у себя, обещая оказывать кое-какую материальную помощь.
Получив письмо сына, Мария Александровна и взволновалась, и очень рассердилась. Особенно её огорчило то, что дочь, живущая у неё уже более недели, о своих затруднениях матери ничего не рассказала до сих пор и не обратилась к ней за помощью сама, а старалась переложить тяжесть этих объяснений на брата. Обеспокоило её и сообщение о болезни мужа.
В тот же вечер у Марии Александровны и Даши состоялся долгий задушевный разговор, и утром следующего дня последняя уже усаживалась в большой тарантас, вызванный с ямской станции Каримовых, а затем ехала по грязной осенней дороге в Торбеево, чтобы сесть на поезд, добраться до Костромы, а оттуда и в Рябково. Через несколько дней она туда благополучно прибыла и сразу же принялась там хозяйничать, как будто никуда и не уезжала.



