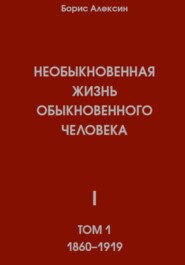 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Но к большому огорчению отца, сын ответил на это сердечное предложение отказом. И этому было две причины: одна из них нам уже известна: Дмитрий Болеславович, как уже говорилось, не любил лечебную медицину и, отдавая предпочтение профилактической, санитарной, врачебной деятельности, предполагал поступить куда-нибудь на должность санитарного врача. Более того, он уже предпринял в этом направлении известные шаги. Будучи в Москве, он договорился в губернской земской управе, и ему была обещана должность санитарного врача в городе Медыни, куда он и должен был прибыть к осени. Отцу об этом он ещё не успел рассказать.
Вторая причина была другого свойства. Анюта, после ужина оставшись с мужем наедине, высказала ему своё возмущение резкими и даже грубыми словами Болеслава Павловича. После них всё восхищение им с неё как рукой сняло, и, если она не могла не признать его большие достоинства как врача, влюблённого в свою профессию, что лишний раз подтвердилось и при показе им своей больницы, она поняла также, что совместная жизнь с таким человеком была бы очень трудной и тяжёлой. Поэтому она сказала Мите, что жить в Рябково совсем и даже просто долго она не сможет.
Болеслав Павлович, огорчённый отказом сына, несколько дней был в плохом расположении духа, но затем, выслушав все доводы Дмитрия Болеславовича и увидев в его рассказе, что сын так же увлечён своей идеей, как и он своей, решил ему не мешать. Он правильно рассудил, что работа по сердцу – это отрада, в то время как работа по принуждению – это каторга. Так он и сказал молодым людям. Таким образом, в Рябково наступил мир, и как будто все остались довольны.
Болеслав Павлович был также доволен и поведением Нюты, которая, соскучившись по делу, во-первых, предложила свои бесплатные услуги медицинской сестры в больнице и оказалась, как говорил её свёкор, отличной сестрой, знающей и любящей своё дело. Да так оно было и на самом деле.
Во-вторых, Нюта взяла на себя заботы и о домашнем хозяйстве, и, так как она обладала недурными познаниями в кулинарии и имела к этому делу склонность, то стол в Рябково стал более разнообразным и более приятным.
Болеслав Павлович об этом её хозяйствовании помнил долго, вот что он писал ей об этом лет семь спустя: «…Я с нетерпением жду того времени, когда буду кушать рисовый пудинг твоего приготовления…».
Таким образом, как мы уже говорили, жизнь в Рябково стала спокойной. А вскоре эта жизнь стала и весёлой, и многолюдной. Летом приехали братья Соколовы и Маргарита Макаровна с мужем. Она в мае месяце вышла замуж за только что окончившего университет будущего учителя географии Алексея Владимировича Армаша, и своё первое лето молодые решили провести в Судиславле, а значит, и в Рябково.
Лето 1905 года в Рябково было такое же шумное и весёлое, как и в добрые старые годы: были и многочисленные прогулки в лес, на озеро и на Волгу, была и охота со всеми сопутствующими ей приключениями и рассказами, были и вечерние чтения и даже попытки концертов на веранде по вечерам, но всё-таки это было не то. Не было умной организаторши этих концертов и спектаклей, отличной музыкантши Марии Александровны, не было весёлого заводилы, этого сорванца в юбке, Нины, не было заботливой, ласковой тёти Даши. Не было в этой компании и дяди Соколовых, а именно Николая Ивановича – бывшего учителя народной рябковской школы. Он в это время был «занят» революцией.
Как известно, тогда в Иваново-Вознесенске, Костроме, да и в Кинешме проходили самые мощные за этот год забастовки текстильных рабочих Одним из непременных ораторов и организаторов этих забастовок был и студент Н. И. Соколов – член РСДРП, посланный в Иваново московской организацией.
Но, несмотря на то, что один из членов семьи Соколовых принимал активное участие в происходивших в то время в России событиях, остальные члены этого семейства, так же, как и члены семьи Пигута, жившие в Рябково, от политики были очень далеки. Они были целиком поглощены своими домашними делами: молодые – развлечениями, молодожёны – любовью, а Болеслав Павлович, помимо своей огромной врачебной работы ещё и заботами о молодых. Все те бурные события, которые происходили совсем не так далеко от Рябково, в него доходили лишь отдельным гулом, не вызывая среди его обитателей ни особого волнения, ни тревог.
Исключение составлял разве что один Митя, да и тот, знакомясь с этими событиями по газетным статьям и случайным рассказам заезжавших соседей, тоже был в положении стороннего наблюдателя. Так прошло лето 1905 г. в Рябково.
Глава четырнадцатая
А в это время в Темникове Мария Александровна вступила в должность начальницы гимназии и стала деятельно готовиться к поездке в Москву. Для того, чтобы закупить всё, действительно необходимое, ей было нужно составить список требующихся вещей, приборов и книг.
Эта работа её очень затрудняла. Она могла подобрать необходимые пособия для русского языка, для французского, для пения, музыки и географии, но для таких предметов, как физика, математика и химия, она сделать ничего не могла.
И если в подборе библиотеки ей оказала большую помощь Варвара Степановна, то в отношении так называемых наук дело как будто зашло в тупик. Мадам Чикунская, относящаяся к Марии Александровне с непонятной для той злобой, чем-либо помочь категорически отказалась. Она запретила оказывать помощь и учителям из мужской гимназии, использовав для этого своего мужа, который был её директором.
И тут на помощь пришла Анна Захаровна Замошникова. Не обращая внимания на явное неудовольствие Чикунской, узнав о затруднениях Марии Александровны, молодая учительница сама предложила свою помощь и сравнительно быстро составила подробный список всего необходимого для занятий по математике, физике и химии, и даже для зоологии и ботаники. Благодаря этому, а также и своей напряжённой работе, через месяц, в июне Мария Александровна смогла выехать в Москву.
В Москве Мария Александровна пробыла недолго. Имея наличные деньги, она быстро приобрела всё необходимое в соответствии с имеющимися списками, кое-что купила в кредит. Всё закупленное она отправила поездом в Торбеево, а оттуда уже нужно было доставлять гужом. Большую помощь ей успели оказать до своего отъезда в Рябково Соколовы и Маргарита Макаровна с мужем. От них, между прочим, она узнала, что вернулся с Дальнего Востока Митя с молодой женой и что они уехали в Рябково.
Так как Мария Александровна имела целью в Москве не только закупить учебные пособия и книги, но и подыскать учителей, то она решила уговорить Маргариту Макаровну и её мужа ехать учительствовать в её гимназию, как только Рита закончит учение. Они согласились, так как в Москве учительнице рисования, а именно это звание получала Соколова после окончания школы, было устроиться трудно. Кроме того, и её мужу Алексею Владимировичу Армашу, как участнику студенческих волнений, служить в Москве вряд ли бы удалось, да и начинать службу под начальством близкой знакомой было, конечно, легче. Помогли супруги Армаши уговорить к поездке в Темников и учительницу французского языка – свою хорошую знакомую, которая обещала приехать к началу учебного года.
Наконец, покупки были сделаны, отправлены в Торбеево, и Мария Александровна, провожаемая всей семьёй Соколовых, села в поезд.
За время пребывания в Москве она порядком устала, так как помимо дневного бегания по магазинам и складам, вечера, как правило, в сопровождении кого-нибудь из Соколовых проводила в театрах, посещать которые была большая любительница. Сумела она побывать и в Третьяковской галерее. Поэтому в вагоне Мария Александровна устроилась поудобнее, чтобы воспользоваться недолгим отдыхом. Ехать ей предстояло всего 12 часов.
В Торбеево её уже ждали лошади ямской станции, владельцем которой был темниковский житель, татарин Каримов. Его ямская находилась как раз напротив нового здания женской гимназии. Он считался порядочным предпринимателем и выполнял все извозные подряды, а их было много по строительству гимназии. И в этот раз Карл Карлович договорился с ним.
Поэтому Мария Александровна, приехав в Торбеево и дождавшись перегрузки закупленного ею имущества с поезда на лошадей, сравнительно спокойно доехала и до Темникова. А ещё через два дня во дворе гимназии стоял длинный обоз, гружённый различной величины ящиками и коробками. Всё это переносилось в здание гимназии с помощью служителей, учителей и добровольцев из гимназисток старших классов, оставшихся на лето в городе. Ими руководила Анна Захаровна. При распаковке всё с интересом рассматривалось и расставлялось по шкафам и полкам соответствующих помещений. Мария Александровна наблюдала, чтобы ничего не было поломано или побито.
Узнав от Соколовых о приезде Мити, Мария Александровна была очень обижена тем, что сын не известил её о своём приезде и тем более о своей женитьбе, и решила ему тоже ничего не писать. Но в Темникове она нашла два письма от Мити и от Нины. Нина писала, что в этом году летом она приехать не сможет, так как много работы, да и по учению тоже дел много. Писала она также, что пока ещё замуж не вышла, но, вероятно, к осени они найдут недорогую квартиру и тогда обвенчаются с Яшей. Писала о своей встрече с Митей и его женой, и что ей Анюта понравилась.
Митя сообщил, что не мог написать раньше, так как не знал маминого адреса, а на Дальнем Востоке её письма не получал. Узнав от Нины адрес, не написал сразу, пока не повидался с папой, и вот теперь, после того, как решил пожить в Рябково лето, собрался написать. В конце лета, когда они с женой Анютой поедут в Медынь, где он, по-видимому, будет работать, они заедут в Темников, и он их познакомит. В письме была небольшая приписка, сделанная женой сына.
Мария Александровна немедленно написала ответы, а Даша стала деятельно готовиться к встрече гостей.
Лето промелькнуло незаметно, так как обе женщины были целиком заняты своими заботами: одна – подготовкой к открытию новой гимназии, другая хотела как можно лучше встретить Митю и его жену.
Наконец, 10 августа 1905 года Дмитрий Болеславович и Анна Николаевна прибыли в Темников.
Нужно сразу сказать, что и Мария Александровна, и Анна Николаевна заранее были настроены друг к другу не очень дружелюбно. Марию Александровну обидело то, что сын с женою поехал прежде к отцу, а не к ней, хотя, как она считала, знал, что её в Рябково нет. Кроме того, как всякая мать, она ревновала сына к невестке. Да и Лёля не очень хорошо отзывалась в своём письме об Анне Николаевне, категорически заявляла: «И происхождение, и развитие значительно ниже Митиного, но богата и, следовательно, купила Митю». В заключение, как обычно, Лёля просила о помощи.
И хотя Нинино мнение – получила и от неё письмо – было совсем противоположным, и Мария Александровна знала, что на Лёлино суждение полагаться особенно нельзя, в её душе создалось какое-то безотчетное предубеждение против снохи.
Анюта в самом Рябково никаких плохих отзывов о Марии Александровне не слышала, но, бывая в гостях у соседей или принимая в доме, узнала: многие отзывались о свекрови как о женщине с причудами, с большими аристократическими замашками и, вообще, получалось, «заела она жизнь» чудесному Болеславу Павловичу. Анюта, конечно, не знала, что в большинстве своём это были те самые милые соседушки, которые в своё время получили строгую отповедь от Марии Александровны при их попытках посплетничать насчёт её мужа, и потому этим рассказам верила. Кроме того, Болеслав Павлович после своей грубой выходки в день их приезда держался так ласково и приветливо, что неопытная Анюта, не зная даже существа ссоры между ним и Марией Александровной, была на его стороне.
Эти обстоятельства сделали встречу между Марией Александровной и Анной Николаевной достаточно холодной. Не увидев попытки к сближению и пониманию, они уверились каждая в своей правоте, и ещё больше охладели друг к другу. Так, эти два, в общем-то, неплохих человека до самого конца жизни не могли понять друг друга и остались врагами, не имея к тому никаких оснований. Мария Александровна считала, что её сын сделал неправильный выбор: прельстившись красотой Анюты, не заметил её чёрствую и холодную душу (такой Анюта казалась свекрови), и потому её последний, единственный сын не будет счастлив.
Все попытки Дмитрия Болеславовича сблизить жену с матерью не привели ни к чему. Поэтому пребывание молодожёнов, к большому огорчению Даши, которая хорошо сошлась с Анютой, а Митю она любила как родного и раньше, не затянулось. Прогостив у матери всего десять дней, они уехали в Москву, чтобы оформить Митино назначение и отправиться в город Медынь.
Ещё в середине августа 1905 года строительство женской гимназии в Темникове успешно завершилось, здание было убрано, полы вымыты, все учебные пособия и приборы размещены на соответствующих местах Библиотека стараниями Варвары Степановны приведена в порядок. Основной штат учителей укомплектован.
Мадам Чикунская категорически отказалась работать в новой гимназии и, по ходатайству Марии Александровны, на должность инспектрисы была назначена молодая учительница математики – Анна Захаровна Замошникова.
Торжественное освящение гимназии должно было произойти 25-го августа, к этому все гимназические работники и, прежде всего, начальница деятельно готовились.
В подарок к этому дню Новосильцева передала в гимназию прекрасный Беккеровский рояль, который и был установлен в рекреационном зале.
С самого раннего утра начали собираться приглашённые гости, преподаватели, ученицы, перешедшие из прогимназии, и просто любопытные жители города.
В 10 часов начался торжественный молебен. В первых рядах стояли гласные городской думы, помещики из ближайших имений во главе с Новосильцевой, высшие чины духовенства, директора всех других городских учебных заведений, преподаватели гимназии во главе с начальницей, представители купечества и местная интеллигенция. Рекреационный зал был заполнен так, что часть любопытной публики стояла на лестнице и даже во дворе.
Молебствовал сам соборный протоиерей со своим протодьяконом. Хор составился из нескольких церквей: ближайшей – Иоанна Богослова, в приходе которой находилась гимназия, из собора – само собой, поскольку служил протоиерей, и из церкви Святой Троицы, где состояла прихожанкой Новосильцева.
Богослужение было очень впечатляющим. После молебна отец Павел (протоиерей) выступил с краткой проповедью, в которой, приводя соответствующие тексты из Евангелия и других священных книг, превозносил благодеяния имущих, стремящихся направить свои богатства на пользу ближних. Всё содержание проповеди было посвящено, как это поняли все, благодетельнице Новосильцевой.
Затем выступил с красивой речью местный «златоуст», присяжный поверенный Леонтьев, который чуть не до небес превозносил попечительницу.
Помещица тоже выступила, поблагодарила за тёплые слова, сказанные в её адрес, и торжественно передала ключи от здания гимназии председателю городской управы, принародно подчёркивая, что построенная на её средства и её заботами гимназия отныне является собственностью города.
Однако, на самом деле, город не имел ни средств, ни особого желания содержать это учебное заведение, и долго ещё, более восьми лет, женская гимназия в Темникове оставалась собственностью помещицы Новосильцевой и считалась частным учебным заведением.
После молебна был оглашён состав попечительского совета гимназии. Председатель совета – М. А. Новосильцева, а в числе членов были соборный протопоп отец Иероним, товарищ городского головы – купец Веселов, директор мужской гимназии – статский советник А. В. Чикунский, земский врач Рудянский А. И., начальник гимназии М. А. Пигута и заведующий Пуштинским лесничеством И. А. Стасевич.
Тут же были зачитаны, а впоследствии и вывешены на специальной доске у кабинета начальницы правила приёма и обучения в гимназии, утвержденные на заседании городской думы. Правила эти составлялись Марией Александровной Пигутой, её ближайшей помощницей – Анной Захаровной Замошниковой и корректировались Марией Александровной Новосильцевой, которая, как владелица гимназии, несла за них юридическую ответственность.
В частных учебных заведениях в то время правила поступления и обучения сочинялись такие, какие было угодно владельцу заведения. Они утверждались местной властью, но последние в их существо особенно не вникали, лишь бы в них не было пунктов, прямо нарушающих законы, и лишь бы программа их соответствовала тому названию, которое эти заведения себе присваивали. Так, гимназия частная в объёме программы по основным предметам не должна была отличаться от гимназии казённой. Вот и всё. В остальном всё представлялось на усмотрение владельца.
Эти правила очень любопытны, и мы кое-какие пункты их приведём:
«§ I. В первый класс гимназии принимаются все лица женского пола, православного вероисповедания, в возрасте 10–12 лет, сдавшие вступительные экзамены, вне зависимости от сословной принадлежности и национальности.
Примечание: лица других вероисповеданий могут быть приняты по специальному разрешению попечительского совета. <…>
§ 3. Обучающимся в гимназии устанавливается следующая обязательная форма одежды: темно-коричневое шерстяное или полушерстяное платье, чёрный сатиновый фартук и белый воротничок. <…>
§ 5. Плата за обучение вносится родителями учащихся три раза в учебный год: в сентябре, декабре и марте, невзнос платы в течение трёх месяцев после истечения срока влечёт за собой исключение учащегося из гимназии. <…>
§ 7. Размер платы за обучение до 4-го класса гимназии составляет 30 руб. в год, с 5-го до 8-го класса – 60 рублей.
§ 8. В гимназии устанавливается 16 мест, по два в каждом классе, бесплатных, плата за обучение в них вносится председателем попечительского совета. Эти места отдаются наиболее способным ученицам из числа беднейших.
§ 9. Учебный год в гимназии начинается 15 сентября и заканчивается 15–25 мая следующего года. В течение учебного года учащимся предоставляются зимние – Рождественские каникулы и весенние – Пасхальные, каждые сроком по две недели. <…>
§ 25. Суммы, складывающиеся из платы за обучение, идут на покрытие расходов по содержанию гимназии: ремонт и обслуживание здания, жалование педагогам и обслуживающему персоналу. На эти расходы составляется ежегодная смета, утверждаемая председателем попечительского совета.
§ 26. В случае, если собранные за первообучение суммы не покрывают предусмотренных сметой расходов, их возмещает владелица гимназии».
В правилах было более тридцати пунктов, они предусматривали многие мелочи жизни и поведения гимназисток не только в гимназии, но и дома, на улице, так как это было принято тогда во всех учебных заведениях, например, гимназисткам предписывалось обязательное соблюдение постов, обязательное говенье на шестой неделе поста, исповедь и причастие в гимназической церкви. Гимназисткам запрещалось посещение гуляний в городском саду и любительских спектаклей без сопровождения взрослых и многое-многое другое.
Приведённые пункты правил, многие из которых теперь нам покажутся смешными и нелепыми, в то же время говорят, что для своего времени эта гимназия была весьма прогрессивна. Ведь в неё принимались дети вне зависимости от сословной принадлежности, тогда как в губернскую гимназию могли попасть только дети дворян и так называемых именитых граждан, преимущественно купцов, и дети интеллигенции.
В Темниковскую женскую гимназию принимались дети вне зависимости от национальности и, значит, в ней могли учиться и дети татар, и дети мордовских крестьян, которых в уезде было много; в губернскую Тамбовскую гимназию опять-таки принимались только лица великорусской национальности.
И может быть, не удалось бы получить утверждения этих правил, если бы это было не в 1905 году, да ещё если бы не такая известная богачка, как Новосильцева, была её владелицей.
Надо прямо сказать, что открытие такого учебного заведения было большим прогрессивным шагом в деле народного образования Темникова.
Глава пятнадцатая
В конце августа 1905 года у Нарвской заставы Петербурга, в небольшом деревянном доме, принадлежавшем старой акушерке Плещеевой Капитолине Егоровне, сдававшей квартиру, поселилась семья, состоявшая из двух человек.
Он – молодой рабочий, вставал в 5 часов утра, чтобы успеть добежать до своего завода. Она – курсистка и, кроме того, служила в хирургической клинике. Вставала жена немного позднее мужа, но тоже всегда спешила. Хорошо ещё, что в начале лета в этот район провели первый трамвай.
Вечерами эта маленькая семья собиралась дома. Каждый из них, как заметила хозяйка квартиры, занимался своим делом, но сидели они вместе, ели вместе, спали тоже вместе. А им главное – одни, никто не мешает. И это для молодых было самым большим счастьем.
Вот так пока устроились Яков Матвеевич Алёшкин-Карпов и его гражданская жена Нина Болеславовна Пигута. Нанять квартиру им помогла Мария Александровна, которая с июля начала регулярно посылать Нине 20 рублей в месяц. Да, они жили уже вместе, а обвенчаться всё ещё не нашли ни времени, ни денег. Впрочем, венчание их мало заботило – атеисты оба.
Но счастливая жизнь их длилась очень недолго. К концу октября вновь поднялась волна революционного движения в столице, не был в стороне от него и тот завод, на который каждое утро спешил Яков Матвеевич. Среди рабочих шли разговоры, что надо прекращать бесполезные стачки, пора браться за оружие, необходимо бороться не только со своими хозяевами, а и со всем царским строем, пришло время сбросить царя, прогнать продажное правительство, а вместе с ним и ненавистную власть капиталистов. Об этом говорили уже не шёпотом, а на каждом перекрёстке вслух.
Разве мог Яков Алёшкин оставаться в стороне? И хотя он не был в рядах передовых революционеров и не состоял ни в одной партии, но он рабочий, частица самого многочисленного класса, и вместе с тысячами таких же простых рядовых людей нёс на своих плечах всю тяжесть забастовок и столкновений с полицией и казаками.
И если Нина проводила целые дни, а бывало и ночи, в различных клиниках, учась или работая, то Яков, как и весной, снова пропадал на собраниях, митингах, а иногда и на военной подготовке. Завод Фридрихсона, по примеру других, тоже бастовал.
Нина очень переживала за мужа. Редко заставала дома днём, часто не бывал и ночами, и они, живя вместе, опять не виделись иногда по нескольку дней. А ведь он не работает – забастовка. И мало ли что может случиться на митинге или в ночных пикетах? Она осунулось и похудела. Будучи в постоянном беспокойстве за Яшу, много работая, Нина стала чувствовать себя плохо и физически, и морально – чем это у них с Яшей кончится? И потому вышедший 17 октября манифест царя, который даровал народу и свободу, и право, она встретила с восторгом – поверила в него и решила: «Ну теперь всё, рабочие добились чего хотели, всякие забастовки прекратятся, и Яков наконец будет ночевать дома, спокойно работать и учиться».
Так думала не только одна Нина Болеславовна, так думали на первых порах почти все, читающие этот манифест, считая его документом, действительно даровавшим народу свободу. Поверил на какое-то время и Яков Матвеевич. Поверила и огромная масса рабочих. А передовая часть рабочего класса, поняв, что собой представляет этот манифест, пыталась как-то раскрыть его сущность. Но большинство рабочих, уставших от бесплодной борьбы, были склонны принять царский манифест за чистую монету и от прямых революционных действий стали отходить. Помогали этому и бесчисленные статьи в самых разных газетах, а также выступления огромного количества ораторов, восхвалявших манифест. Царизм добился своей цели: рабочие раскололись, и к концу 1905 года революционная волна в Петербурге начала спадать.
Одновременно действия реакции, воспользовавшейся этим спадом, стали усиливаться. Начались многочисленные аресты, суды, высылки. Полиция хватала и правого, и виноватого. С фабрик и заводов сотнями увольняли «забастовщиков» и «смутьянов».
Нина Болеславовна с ужасом ждала, что подобная участь постигнет и её Яшу. В это время так было почти в каждой рабочей семье, даже и в том случае, если члены её и не принадлежали к числу активных революционеров или к какой-либо партии.
Всё начало 1906 года прошло в ожидании всяких неприятностей и несчастий. Однако прошла зима, а с Алёшкиным ничего страшного не случилось. Видимо, его участие в забастовочном движении, в демонстрациях и митингах было настолько незначительным, или, вернее, так много рабочих принимало в них участие, что подвергнуть преследованию всех, участвовавших в революционных действиях, было попросту невозможно. Это значило бы оставить Петербург без рабочих, а, следовательно, остановить все его промышленные предприятия, на что, очевидно, столичным заводчикам и фабрикантам пойти было нельзя.
Таким образом, с середины 1906 года Яков Матвеевич не только стал нормально работать на своём заводе, но и возобновил занятия на курсах.



