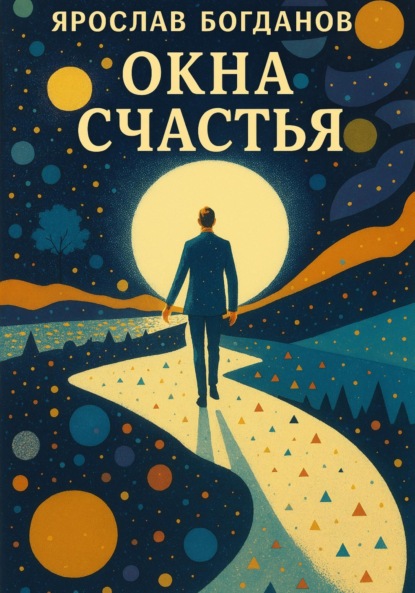
Полная версия:
Окна счастья
Со стороны нейробиологии, помимо фМРТ-исследований активности мозга при саморефлексии, ценную информацию дают наблюдения за повреждениями мозга. Известно, что травмы лобных долей могут приводить к изменению личности и утрате инсайта – способности оценивать свои поступки со стороны. Такие случаи подчёркивают роль префронтальных областей в поддержании самоконтроля и самопонимания. В целом, сочетание данных разных наук – от экспериментов с зеркалом у животных до сканирования мозга и изучения ископаемых – рисует согласованную картину: самосознание возникло как адаптация к социальным вызовам, укрепляемая как конкуренцией за статус, так и отбором в контексте спаривания.
Заключение
Самосознание человека – результат длительной эволюции, в ходе которой мозг научился смотреть на самого себя глазами окружающих. Нейробиологические механизмы (префронтальные и теменные сети, зеркальные нейроны и др.) создали основу для рефлексии, позволив нашей психике сформировать образ «Я». Это нововведение принесло значительные социальные преимущества: осознающий себя индивид лучше ориентируется в иерархии, предугадывает поведение других и может стратегически влиять на своё положение. В борьбе за ресурсы и статус самосознание стало своеобразным оружием, повышая шансы на успех в группе. Одновременно половое селекция усиливала интеллектуальные и поведенческие черты, связанные с самопознанием и самовыражением, поскольку такие черты делали наших предков более привлекательными партнёрами. В итоге эволюция словно отточила самосознание как многоцелевой инструмент – и для доминирования в социуме, и для привлечения любви, и для развития культуры. Современные исследования эволюционной психологии и нейронауки продолжают раскрывать детали этого процесса (The Evolution of the Human Self: Tracing the Natural History of Self‐Awareness | Request PDF) (Psycoloquy 12(008): The Mating Mind: how Sexual Choice Shaped the Evolution of), однако уже ясно, что способность задуматься о себе не возникла случайно. Она закрепилась потому, что дала нашим предкам существенное конкурентное преимущество, заложив фундамент человеческой природы как социально доминирующего, самопонимающего вида.
Музыка как форма внесловесной смысловой организации
1. Введение
Традиционно в философии и науке смысл и сознание связывались прежде всего с языком: вербальный код (слово, речь) считался главным носителем значения. Эта логоцентрическая установка прослеживается от античного «Логоса» до современных лингвоцентричных теорий мышления. В рамках такого подхода музыка зачастую воспринималась лишь как «украшение» или auditory cheesecake (по выражению С. Пинкера), не имеющее собственного значения. Однако в последние десятилетия назрело понимание, что подобный приоритет слова несправедливо умаляет другие системы коммуникации и смыслообразования. Цель данного эссе – показать, что музыка представляет собой самостоятельную смысловую систему со своей собственной структурой и логикой, не сводимую к языку. Мы рассмотрим историко-философские взгляды на смысл музыки, сравним музыкальную и вербальную семиотику, проанализируем «грамматику» эмоций в музыке, ее биологические корни, проявления в мозге, пересечения с поэзией, а также практические применения и перспективы, включая гипотезу о фундаментальной музыкальности человеческого сознания.
Уже на базовом уровне можно отметить: музыка – это особая форма символической коммуникации, в которой люди передают и переживают состояния и процессы через организованные несловесные звуковые структуры (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Хотя музыка лишена буквального словаря, она способна кодировать и вызывать сложные значения – прежде всего эмоциональные, но не только их. В отличие от речи, музыкальный смысл не обязательно выражается через понятия, однако он понимается напрямую через восприятие формы, ритма, интонации. Таким образом, музыка задает внесловесный способ организации смысла, заслуживающий анализа наравне с языком.
2. Историко-философский контекст
В разных эпохах мыслители пытались осмыслить природу музыкального смысла. Античность заложила традицию космического и математического понимания музыки. Пифагор рассматривал музыкальные отношения как отражение всеобщей гармонии мироздания. Ему приписывается изречение: «Есть геометрия в гуле струн, есть музыка в расположении сфер» (Pythagoras & the Music of the Spheres – Aurora Orchestra), выражающее идею, что соотношения звуков подчинены тем же числовым законам, что и движение небесных тел. Концепция «гармонии сфер» утверждала, что сами пропорции мироздания образуют не слышимую физически, но постигаемую умом высшую Музыку (Pythagoras & the Music of the Spheres – Aurora Orchestra) (Pythagoras & the Music of the Spheres – Aurora Orchestra). Таким образом, уже у пифагорейцев музыка была более чем чувственным феноменом – скорее проявлением вселенского смысла, «звучащая математика» бытия.
Неоплатоническая традиция и христианские мыслители раннего Средневековья (включая Августина) развили идею духовной природы музыки. Августин Блаженный в трактате De Musica и других работах утверждал, что музыка – это особый язык души, пригодный для восхваления Бога и передачи духовных истин, когда обычный язык бессилен. Столкнувшись с ограниченностью слов в описании божественного, Августин рассматривал музыку как “succinctum quidam signum” – «сжатое средство коммуникации» с Божественным (Augustine on music as the harmonious language of spirituality: An apophatic theological study | Baleng | In die Skriflig/In Luce Verbi). Музыка, по Августину, обладает гармонией, основанной на числовом порядке, и через эту упорядоченность приближает душу к небесной гармонии. Современные исследования подтверждают, что для Августина музыка была гармоничным языком духовности, всеобщим и математически упорядоченным (Augustine on music as the harmonious language of spirituality: An apophatic theological study | Baleng | In die Skriflig/In Luce Verbi). Иными словами, для неоплатоников музыка – это «язык души», мистический и одновременно рационально (численно) организованный, способный выражать невыразимое словами.
Новый поворот дал Новое время. Философы Просвещения и последующих эпох искали в музыке отражение метафизических принципов. Так, Г. В. Лейбниц видел в музыке прежде всего проявление математического разума: «Musica est exercitium arithmeticae occultum…» – «Музыка есть скрытое арифметическое упражнение души, не сознающей, что считает» ( Quotations by Gottfried Leibniz – MacTutor History of Mathematics ). Эта знаменитая мысль Лейбница подчёркивает, что удовольствие от гармонии возникает из бессознательного счёта пропорций. Музыка, таким образом, мыслится как форма метафизики чисел, которая действует на душу напрямую, минуя словесные конструкции.
В то же время философы начали осознавать особую эмоциональную силу музыки. Жан-Жак Руссо в эссе «О происхождении языков» (опубл. 1781) выдвинул идею, что первые человеческие языки были тесно связаны с музыкой. По Руссо, в изначальном (доисторическом) состоянии коммуникация была певучей и эмоциональной, люди выражали чувства голосом через мелодические выкрики, а не абстрактные слова (Essay on the Origin of Languages – Wikipedia). Лишь позже, с охлаждением нравов и миграцией в иные условия, язык утратил музыкальную одушевленность и стал рациональным (Essay on the Origin of Languages – Wikipedia). Руссо фактически предположил, что музыка предшествует речи филогенетически и что эмоциональная выразительность – первичный слой смысла, на который лишь надстроились логические значения. Эта мысль оказала влияние на дальнейшие рассуждения о происхождении языка из музыки.
В романтической и идеалистической философии XIX века музыка провозглашается высшей из искусств именно благодаря внесловесной природе. А. Шопенгауэр отводил музыке особое место в своей метафизике воли: если другие искусства отображают идеи или явления мира, то музыка непосредственно выражает волнения «мировой воли», саму сущность бытия. Шопенгауэр писал, что музыка – это «бессознательное упражнение в метафизике, где дух не сознаёт, что философствует» (Exclusive 3:16 Interview with Arthur Schopenhauer – 3:16). Иными словами, когда мы сочиняем или слушаем музыку, наша душа занимается метафизикой (постигает сущность мира) не через понятия, а через живые переживания. Музыка у Шопенгауэра – не язык явлений, а язык самой сущности, «копия воли» в звуках (Exclusive 3:16 Interview with Arthur Schopenhauer – 3:16). Так утверждается особая философская значимость музыки: она сообщает то, что недоступно слову, обращаясь прямо к фундаментальным основам сознания и мира.
В XX веке взгляды на музыку обогатились идеями структурализма, семиотики и постструктурализма. Структуралисты (например, Клод Леви-Строс) обратили внимание на схожесть внутреннего устройства языка и музыки. Леви-Строс даже отмечал парадоксальный статус музыки как языка: музыка универсально понятна, но её невозможно перевести на слова – «единственный язык, обладающий противоречивыми свойствами быть одновременно понятным и непереводимым» (Be Smart • Since music is the only language with the…). Отсюда следовал вывод, что композитор в своей сфере подобен богу, создающему мир смыслов вне слова (Be Smart • Since music is the only language with the…). Постструктуралисты (Р. Барт и др.) подхватили эту идею непереводимости: смысл музыки множественен, ускользает от однозначных трактовок, подобно тексту, открытом бесконечным интерпретациям.
Возникла и оформленная теория музыкальной семиотики. Музыковеды-семиологи, такие как Жан-Жак Наттье и Филипп Тагг, попытались системно описать музыкальный язык как совокупность знаков и кодов. Наттье ввёл понятия поэтического (порождающего) и эстезического (воспринимающего) уровней музыкального смысла, а также «нейтрального уровня» – самого звукового текста (Augustine on music as the harmonious language of spirituality: An apophatic theological study | Baleng | In die Skriflig/In Luce Verbi). Согласно Наттье, композитор закладывает некий замысел (поэтический аспект), он воплощается в самой структуре звуков (нейтральный уровень), а слушатель уже интерпретирует и наделяет это значение своим опытом (эстезический аспект). При этом на нейтральном уровне – уровне самой музыкальной ткани – нет готовых значений, он подобен тексту, который ещё предстоит «прочесть» (Augustine on music as the harmonious language of spirituality: An apophatic theological study | Baleng | In die Skriflig/In Luce Verbi). Филипп Тагг, изучая музыку массовой культуры, показал, что музыкальные элементы приобретают значение через ассоциации и контексты. Прямые звуковые иконы (например, звукоизобразительность, имитация шума природы) встречаются крайне редко (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Гораздо чаще ноты и обороты «ничего не означают сами по себе» – их смысл определяется либо их ролью внутри самого произведения, либо сходством с оборотами других известных слушателю музыкальных стилей (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Тем не менее, подчёркивал Тагг, музыка не изолирована от жизни: смены музыкальных стилей исторически связаны с социальными изменениями (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Например, появление новых ритмов или ладов часто отражает перемены в обществе, и эти новые элементы, усвоившись, начинают отсылать к определённой социальной среде или настроению (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Таким образом, современные исследователи утверждают сложную семиотику музыки: нет примитивного «словаря» из звуковых значков, но есть богатый набор кодов и коннотаций, через которые музыка транслирует смыслы – эмоциональные, культурные, даже политические.
Подведём итог взглядам: от Пифагора до Наттье прослеживается эволюция от понимания музыки как космической математической гармонии до понимания её как самостоятельной знаковой системы. Всех объединяет признание, что музыка – не бессмысленный звук, а носитель смысла и порядка: будь то объективный (числовой, космический) смысл или субъективный (эмоционально-ассоциативный). Теперь, опираясь на эти идеи, сравним более формально, чем же музыкальная система отличается от вербальной.
3. Сравнительный анализ музыкальной и вербальной систем
Чтобы понять специфику музыкального смысла, полезно сравнить его с вербальным по ключевым параметрам: элементарная единица, синтаксис, семантика, функция и универсальность.
Единицы. В языке минимальной единицей смысла являются слова (или морфемы), построенные из фонем. Эти элементы дискретны и относительно стабильны (слова можно перечислить в словаре). В музыке же нет строгих аналогов слова – звукоряд непрерывен. Можно считать «атомами» музыки отдельные ноты по высоте и длительности, но сами по себе они обычно не несут значения (подобно буквам в языке). Значимые музыкальные единицы – это скорее мотивы, интонации, характерные ритмо-мелодические формулы. Музыкальные семиотики ввели термин «музема» (по аналогии с морфемой) для обозначения минимального значимого оборота (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Например, мажорное трезвучие можно трактовать как музему радости, а нисходящая хроматическая гамма – как музему скорби (по традиции западной музыки). Однако в разных культурах набор базовых интонационных «слов» различен. Вывод: музыкальные единицы менее дискретны и менее унифицированы, чем языковые; часто значение проявляется лишь на более крупном уровне фразы или темы.
Синтаксис. Под синтаксисом понимаются правила сочетания единиц в связное высказывание. Язык обладает развитой грамматикой: есть части речи, порядок слов, морфологические согласования, благодаря чему из слов конструируются осмысленные предложения. В музыке тоже существуют строгие правила сочетания звуков – музыкальная грамматика. Примером является ладо-тональная система в европейской музыке, где определённые последовательности аккордов считаются устойчивыми (например, классическая каденция II–V–I), а другие – «неправильными». Ритмические размеры и метр накладывают свой порядок, аналогичный метрике стихов. Л. Бернстайн в лекциях Norton (1973) прямо сравнивал музыкальную и языковую синтаксисы, указывая, что звуки в музыке образуют иерархические структуры, подобно тому как фонемы и слова образуют фразы в речи (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Действительно, и музыка, и язык имеют субординацию элементов: ноты группируются в мотивы, мотивы – в фразы, фразы – в разделы пьесы; аналогично фонемы -> слоги -> слова -> предложения. Оба эти «языка» генерируют потенциально бесконечное многообразие высказываний из ограниченного набора элементов по рекурсивным правилам (как отмечал Ф. Лердаль) (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Но есть и различия: в музыке нет частей речи в лингвистическом смысле – нельзя разбить мелодию на «сущность» и «действие» (нет существительных и глаголов) (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Музыкальный синтаксис более гибок: он задаёт направление развития (напр., тяготение диссонанса к разрешению), но не жёсткие конструкты наподобие подлежащего и сказуемого. Тем не менее, музыкальная мысль весьма логична: композитор, как и говорящий, ожидает от аудитории понимания, поэтому использует знакомые «синтаксические» ходы (например, повтор темы, вариационное развитие – как аналог пояснений, уточнений речи). В целом, синтаксис есть и там и там, но язык оперирует семантически нагруженными категориями (подлежащее, время глагола), а музыка – категориями чисто формальными (тоника, доминанта, длительности), через которые косвенно выражаются чувства.
Семантика. Здесь различие наиболее заметно. Язык обладает денотативной семантикой – слова прямо отсылают к объектам или понятиям (например, «дерево» означает реальный предмет или концепт дерева). В музыке отсутствует очевидная денотация: мотив или аккорд сами по себе ничего конкретного не обозначают вне контекста. Как писал Леви-Строс, музыкальный смысл понятен, но не поддаётся переводу на понятия (Be Smart • Since music is the only language with the…). Однако это не означает, что у музыки нет семантики вообще. Просто ее семантика носит коннотативный и эмоциональный характер. Музыка способна вызывать образы, ассоциации, описывать настроение, «рассказывать историю» без слов. Например, минорный лад обычно воспринимается как «грустный», маршевый ритм – как «воодушевляющий», диссонансы – как «напряжение», стремящееся к разрешению. Эти значения не абсолютны, но весьма распространённы культурно. Слушатели, принадлежащие к одной традиции, «считывают» эмоциональные и образные смыслы сходным образом (что подтверждается экспериментами по музыкальной семантике (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ) (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) )). Ф. Лердаль указывал, что у музыки нет семантики в лингвистическом смысле – то есть словаря предметных значений – и нет разложения на именительные и предикативные функции (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Зато у музыки есть семантика переживания: она передает смыслы, связанные с внутренними состояниями, динамикой чувств, и делает это зачастую точнее и тоньше слов. В некотором роде музыкальная семантика шире: она универсальна (в общих чертах) – даже человек, не знающий культуры, уловит, что траурный марш скорбен, а колыбельная нежна, – но одновременно индивидуальна (в деталях) – каждый слушатель наполняет музыку личными ассоциациями. Можно сказать, что язык оперирует понятиями, а музыка – состояниями и отношениями, не называя их, а непосредственно вызывая их в сознании.
Целевая функция. Язык эволюционно служит для коммуникации конкретной информации: передачи фактов, мыслей, указаний. Его основная задача – быть понятым в явном плане (что сказано, то и имеется в виду). Музыка же, по-видимому, изначально не предназначена для сообщения фактов об окружающем мире. Её функция – экспрессивная и импрессивная: выражать внутреннее состояние исполнителя и вызывать эмоциональный отклик у слушателей. Конечно, музыка тоже может нести информацию – например, сигнал охоты или военный марш – но это скорее побочный культурный код. Главная цель музыки в человеческих обществах – формирование коллективного эмоционального опыта, ритуальное сплочение (песни, танцы), психотерапевтическое действие (утешение, катарсис) и эстетическое созерцание. Дарвин предполагал, что предшественником языка могла быть песнь для привлечения партнёра, то есть музыка могла эволюционировать как средство сексуального отбора и социального общения ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Современные исследователи (С. Браун, Б. Миттен и др.) развивают гипотезу «музыколингвистического протоязыка», где функция музыкальной коммуникации – социальная координация и передача настроений. Таким образом, в то время как вербальная речь стремится к объективному описанию и логическому рассуждению, музыка целит прямо в эмоционально-чувственный отклик. Она способна мгновенно объединить группу людей в единый ритм или настроение – то, на что языку потребовались бы долгие речи. Можно сказать, язык отвечает на вопрос «что говорится?», а музыка – «как ощущается?».
Универсальность. И язык, и музыка универсальны для человеческого вида – нет известных культур без речи, равно как и без музыки. Однако их универсальность проявляется по-разному. Основные структуры языка (грамматика, разделение на имена и глаголы, синтаксическая рекурсия) предполагаются врождёнными и общими – согласно Хомскому, у всех языков есть «универсальная грамматика». В музыке трудно указать столь же строгие универсалии: музыкальные системы разных народов разительно различаются (ладовые структуры, инструменты, строй). Тем не менее, исследования показывают наличие некоторых общечеловеческих музыкальных тенденций, связанных с нашей психофизиологией. Например, во всех культурах колыбельные – мелодичны, медленны и тихи, а походные или боевые песни – ритмичны, громки (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Это объяснимо биологически: тело человека резонирует на определённые темпы и громкости (быстрый темп и акцентированный ритм возбуждают, медленный и плавный успокаивает – во многом универсально). Такие био-акустические универсалии действительно существуют (P Tagg | Musicology and the semiotics of popular music (Semiotica 66-1/3, 1987) ). Но более высокие уровни (набор тонов, созвучий) могут быть уникальными для каждой культуры. И всё же способность понимать музыку, чувствовать через неё – универсальна. Более того, как отмечал Ф. Лердаль, и язык, и музыка являются уникально человеческими: животные коммуникации, хоть и бывают мелодичными (птичий щебет), не достигают нашей сложности (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Оба эти “языка” позволяют бесконечное творчество на основе ограниченных средств – важнейший признак универсального когнитивного механизма (Music as Universal Language – Applied Unificationism). Таким образом, язык и музыка представляют два параллельных универсальных канала смысла: первый – дискретно-понятийный, второй – непрерывно-эмоциональный.
Подводя итог сравнению: музыкальная и вербальная системы во многом структурно сходны (иерархия элементов, «грамматика» организации, культурная универсальность), но их семиотическая природа различна. Слово однозначно указывает на объект или идею, тогда как мотив вызывает комплекс ощущений. Тем не менее, обе системы дополняют друг друга в человеческом мышлении. Чтобы убедиться, что музыка действительно обладает всеми атрибутами смысловой системы (хотя и особого рода), рассмотрим подробнее, как она организует смысл без слов.
4. Музыка как смысловая система
Мы утверждаем, что музыка образует особый тип языка, в котором вместо логических понятий оперируют эмоционально-структурные категории. Раскроем ключевые понятия такой «грамматики эмоций»: эмоциональный синтаксис, алгоритмичность формы, архитектура эмоций во времени и аналоги грамматики (ритм, интонация и т.п.).
Эмоциональный синтаксис. Сильнейшие эмоции в музыке рождаются не хаотично, а благодаря структуре ожиданий и разрешений. Ещё музыковед Леонард Майер (1956) отмечал, что переживание – это реакция на исполнение или нарушение ожиданий слушателя. Можно сказать, что у эмоций в музыке есть синтаксис: определённые последовательности аккордов или мелодических ходов создают чувство напряжения, затем его снятия, аналогично тому как в предложении сначала ставится проблема, потом разрешается. Современные теоретики (Юджин Нармоур и др.) даже моделируют эмоциональный отклик на музыку как работу двух систем ожидания – «сверху вниз» (когнитивные схемы) и «снизу вверх» (врождённые паттерны восприятия) (The Top-Down and Bottom-Up Systems of Musical Implication). Например, когда в классической музыке звучит доминанта, мы ожидаем тонику; задержка с разрешением порождает эмоцию напряжённого ожидания, а разрешение – ощущение удовлетворения. Эти правила усваиваются с опытом, и композитор ими виртуозно манипулирует, формируя эмоциональный сюжет. Таким образом, последовательность музыкальных элементов образует подобие эмоционального высказывания с синтаксисом – где «подлежащим» выступает заявленная тема (настрой), а «сказуемым» – ее развитие, кульминация и разрешение. Эмоциональный синтаксис может быть сложным: в симфоническом произведении могут быть несколько волн подъёма и спада чувств, второстепенные темы и модуляции – как в сложном тексте с отступлениями. Но благодаря соблюдению логики формы слушатель способен следовать этой эмоциональной истории и понимать её внутреннюю причинно-следственную связность (почему музыка стала мажорной – «потому что» конфликт разрешился, и т.п.). Это понимание происходит интуитивно, но от этого не менее реально. В итоге музыка грамматически «синтезирует» эмоции во временной последовательности, делая их осмысленными для переживания.



