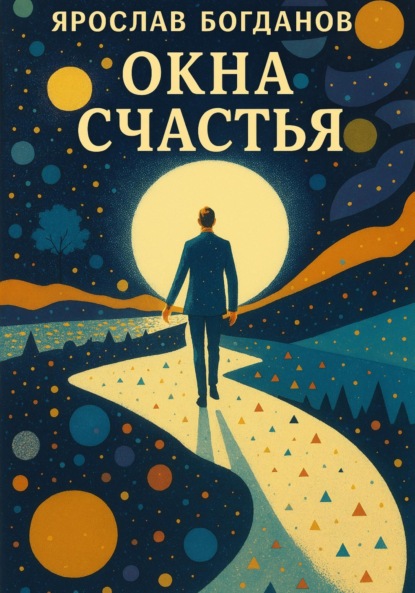
Полная версия:
Окна счастья

Ярослав Богданов
Окна счастья
«Кто знает, не приведёт ли последний предел прогресса через миллионы веков к абсолютному мировому сознанию и не разбудит ли в этом сознании всё, что жило? Сон миллионов лет не дольше одного часа… Верно то, что нравственные и добродетельные люди получат воздаяние, что настанет день, когда чувство честного бедняка будет судить мир, и что идеальный образ Иисуса явится тогда на смущение человеку суетному, не верившему в добродетель, эгоисту, не сумевшему достичь её… Как будто какое-то грандиозное прозрение руководило несравненным учителем, поднимая его на высоту той беспредельности, откуда он мог разом обнять разные роды истин».
Э. Ренан «Жизнь Иисуса»
В глубине ваших надежд и желаний лежит молчаливое знание запредельного; и, как семена, спящие под снегом, ваше сердце видит сны о весне. Верьте снам, ибо в них скрыты врата в вечность. Ваш страх перед смертью – лишь трепет пастуха, стоящего перед царём, который возложит на него руку в знак милости. Разве в трепете пастуха не таится радость от того, что он будет отмечен царём? И разве не трепет беспокоит его всего более?
Джебран
Психический организм
1. Автоотождествление и механизмы сознания
Сознание как цикл самоидентификации. В концепции пользователя сознание рождается из замкнутых циклов нейронной активности: сети нейронов, возбуждаясь по кругу, создают устойчивый паттерн, который мозг распознаёт как существование самого себя. Иными словами, возникает автоотождествление – нейронная система, которая поддерживает и считывает собственное состояние. Подобные идеи о самореферентных петлях известны и в науке: например, ещё Д. Хебб предполагал, что замкнутые цепи нейронов (реверберационные кольца) лежат в основе кратковременной памяти и субъективного переживания. Современные нейрокогнитивные теории также акцентируют роль рекуррентных связей. Так, Геральд Эдельман ввёл понятие реэнтрантной (двунаправленной) нейронной активности, связывающей различные зоны мозга в единый ансамбль – “динамическое ядро” сознания (Naturalizing consciousness: A theoretical framework – PNAS). Реэнтрантные циклы позволяют мозгу одновременно интегрировать информацию и представлять собственные состояния, что, по мнению Эдельмана, и порождает субъективный опыт (Biology of Consciousness – Frontiers). В модель пользователя о циклических сетях, самоподдерживающих своё возбуждение, хорошо вписывается идея, что сознание есть процесс, в котором система строит модель самой себя во времени.
Модели сознания в когнитивной науке. Схожие мотивы прослеживаются в ряде известных теорий. Так, Майкл Грациано в своей теории схемы внимания предлагает, что мозг создаёт упрощённую модель собственного состояния внимания и на её основе делает вывод о наличии у себя некой «неуловимой субъективной осведомлённости». Иными словами, мозг конструирует схему «я внимателен к X», которая и переживается как сознание (Attention schema theory – Wikipedia) (Attention schema theory – Wikipedia). Эта теория рассматривает самомодель мозга как ключ к пониманию ощущения осознанности. Она перекликается с философским взглядом Дэниела Деннетта: согласно его модели множественных черновиков, единого «центра» сознания не существует – в мозге параллельно протекает множество процессов, результаты которых записываются в память и влияют на поведение (Multiple drafts model – Wikipedia) (Multiple drafts model – Wikipedia). То, что мы называем «я» – лишь нарратив, возникающий от интеграции наиболее выдающихся (записанных) результатов этих процессов (Multiple drafts model – Wikipedia). Сходство с идеей пользователя прослеживается в том, что и у Деннетта «я» есть эффект самописания системы, хотя у него это скорее иллюзия непрерывного наблюдателя, возникающая из конкуренции потоков информации, чем продукт замкнутого нейронного контура.
Другой подход предложен Антонио Дамасио, который напрямую связывает сознание с самоотображением организма в мозге. В его теории уровней самости выделяется протосамо – «собор» нейронных паттернов, непрерывно картирующих внутреннее состояние тела (Damasio, Self and Consciousness). Когда внешний объект воздействует на организм и вызывает изменения в этом протосамо, мозг генерирует «ненарративное соотношение» между объектом и состоянием тела – это и есть акт ядрового сознания (Damasio, Self and Consciousness). Проще говоря, сознание возникает, когда мозг отмечает: «что-то (объект) изменило состояние моего тела», создавая таким образом ощущение переживающего «я» (ядрового self). Эта модель подтверждается нейрофизиологическими данными: например, повреждения в районе стыка теменно-лимбических структур (задний цингулярный и прецентральный cortex), которые участвуют в интеграции сигналов от тела и внешних стимулов, приводят к выпадению сознания (Damasio, Self and Consciousness) (Damasio, Self and Consciousness). Концепция автоотождествления пользователя во многом созвучна дамасиановской идее: и там, и там сознание – результат того, что мозг делает «карту» самого себя, хотя Дамасио подчёркивает телесно-эмоциональную основу этой карты.
Физические и философские аспекты самоосознания. Некоторые теории сознания идут ещё дальше в попытке объяснить природу самости. Например, Роджер Пенроуз полагает, что одних нейронных сетей (какими бы сложными или рекуррентными они ни были) недостаточно для объяснения сознания. В гипотезе Пенроуза–Хамерроффа (Orch OR) выдвинуто смелое предположение: сознание рождается из квантовых процессов в микротрубочках нейронов, а не является просто свойством классических нейронных связей (Orchestrated objective reduction – Wikipedia) (Orchestrated objective reduction – Wikipedia). Эта теория утверждает, что в основе сознания лежат нек вычислимые процессы, и наш мозг – не просто «нейронный компьютер», а квантовый биокомпьютер (Orchestrated objective reduction – Wikipedia). С точки зрения пользователя, делающего акцент на самоотождествляющихся нейронных сетях, позиция Пенроуза представляет интересный контраст: она ставит под вопрос саму достаточность циклической нейронной активности для возникновения я-ощущения. Тем самым, сравнение показывает широту дискуссий: от сугубо информационных моделей (Деннетт, Грациано), через биологически укоренённые (Дамасио), до квантово-онтологических (Пенроуз).
Психологические взгляды на сознание и идентичность. Ещё до нейронаучного поворота вопросами самости занимались психологи и психоаналитики. Зигмунд Фрейд рассматривал сознание лишь как “вершину айсберга” психики, полагая, что истинная каузальность поведения скрыта в бессознательном. Тем не менее, для развития эго (того, что ощущается как «я») критически важен механизм идентификации. Фрейд указывал, что ребёнок бессознательно перенимает черты значимых Других (родителей) – идентифицируется с ними – и за счёт этого формирует свою личность. По сути, «я» конструируется путём внутреннего присвоения внешних образцов. Можно сказать, что у Фрейда сознательное самоотождествление эго есть итог бессознательной работы по интеграции внешних смыслов (норм, ценностей, образов других) (Erich Fromm: How to Become a Loving Person | Daily Philosophy) (Erich Fromm: How to Become a Loving Person | Daily Philosophy). Концепция пользователя, где нейронные смыслы размножаются и образуют иерархии, отчасти напоминает такую динамику: индивидуальное я есть «пучок» идентификаций/смыслов, склеенных воедино. Более того, Фрейд позднее сформулировал идею двух базовых движущих сил – Эроса и Танатоса. Эрос (жизненный инстинкт) стремится к объединению, созиданию, росту связностей, тогда как Танатос (инстинкт смерти) – к разрыву связей, к упрощению до неорганического состояния (Freud’s Eros and Thanatos Theory: Life and Death Drives). Сознательное я можно рассматривать как продукт Эроса: оно интегрирует разнообразные психические содержания и поддерживает их связность, противостоя распаду психики (энтропии). Эта мысль явно сочетается с акцентом пользователя на «антиэнтропийной» роли любви (см. раздел 3).
Лев Выготский внёс другой важный штрих, перенёсши происхождение сознания из биологической в социально-смысловую плоскость. Он показывал, что структура человеческого сознания формируется через интериоризацию культурных средств, прежде всего языка. “Человек отличается от животного тем, что усваивает культурные знаки, коренным образом перестраивающие его поведение и мозговую организацию. Язык – важнейшее из таких средств, позволяющее выйти за пределы актуального восприятия и оперировать в плане смыслов” ( The final chapter of Vygotsky's Thinking and Speech: A reader's guide – PMC ). В терминологии Выготского, значения слов – базовые единицы сознания, продукты социального опыта, которые, будучи усвоены ребёнком, образуют внутреннюю речь и тем самым мысль. Это перекликается с идеей пользователя о психике как «организме смыслов»: наши мысли – не автономны, они суть «голоса» усвоенных культурных смысловых единиц, которые взаимодействуют между собой внутри головы подобно тому, как в диалоге взаимодействуют разные люди. Автоотождествление в таком взгляде – это, по сути, процесс присвоения субъектом тех смыслов, которые были изначально “чужими” (пришли извне через обучение и общение). Таким образом, сопоставление с Фрейдом и Выготским показывает: помимо нейронной механики, самоотождествление всегда осуществляется в определённом смысловом пространстве, заданном как биологически (телесными ощущениями), так и социокультурно (языком, общением).
2. Смыслы как динамические корпорации нейронов
Идея «самостоятельных» смысловых единиц. В концепции пользователя каждый смысл предстает как активная конфигурация нейронов – своего рода “мем” внутри мозга, который стремится закрепиться и размножиться. Такие смысловые единицы не статичны: они могут порождать «копии» (например, через повторное воспроизведение идеи или образа), конкурировать с другими смыслами за “внимание” сознания, объединяться в более сложные структуры. Эта картина удивительно напоминает теорию мемов, предложенную Р. Докинзом для культурной эволюции. Докинз ввёл понятие мема как единицы культуры, которая реплицируется, мутирует и проходит отбор подобно гену (Memetics – Wikipedia) (Memetics – Wikipedia). Мемами могут быть мелодии, слоганы, навыки – любые идеи, которые распространяются от мозга к мозгу. Причём, как и гены, удачные мемы могут образовывать коадаптированные комплексы – мемплексы – где несколько идей сотрудничают ради лучшей выживаемости друг друга (Memetics – Wikipedia). Если переложить это на уровень одного разума, можно сказать, что отдельные смыслы в психике ведут себя как мемы в культурной среде. Они стремятся закрепиться в памяти, ассоциироваться с другими идеями, «захватить ум». Сузан Блэкмор, развивая эту теорию, даже назвала людей “машинами мемов”, подчёркивая, что значительная часть наших мыслей – это вирусоподобные культурные репликаторы, паразитирующие на нашем мозге (Memetics – Wikipedia).
Но откуда берутся новые смыслы? Здесь на помощь приходит концепция эволюционной эпистемологии Дональда Кэмпбелла. Он предложил универсальный принцип генерации знаний – слепое вариирование и избирательное сохранение (BVSR) (Donald Campbell) (Donald Campbell). По Кэмпбеллу, как биологическая эволюция, так и творческое мышление опираются на случайное порождение множества вариантов и отбор немногих удачных. В мозге это означает, что рождению нового смысла предшествует “перебор” комбинаций нейронной активности, большинство из которых отвергается, а некоторые закрепляются обучением. Критически, нужна не только вариативность и отбор, но и механизм сохранения и воспроизведения выигравших вариантов (Donald Campbell). В нейронных терминах – синапсы должны измениться так, чтобы удачная комбинация могла повториться (память). Таким образом, идея пользователя о размножении смыслов хорошо согласуется с эволюционной логикой: смыслы размножаются не точными копиями, а с вариациями, и конкурентный “отбор внимания” решает, какие из них продолжат существование. Аналогичные процессы описывали и в кибернетических моделях творчества (например, алгоритмы “генерируй и тестируй” Г. Саймона и А. Ньюэлла) (Donald Campbell) (Donald Campbell).
Глобальное рабочее пространство и конкуренция идей. Современная когнитивная наука предлагает архитектурный взгляд на то, как разные “смыслы” могут бороться за контроль над поведением. Согласно теории глобального рабочего пространства Бернарда Баарса, в мозге множество параллельных неосознаваемых процессов соревнуются за то, чтобы их содержание попало в ограниченный “пространство внимания” и стало сознательным (Global workspace theory – Wikipedia) (Global workspace theory – Wikipedia). Баарс сравнил сознание с сценой театра: за кулисами (в бессознательном) множество “актеров”-процессов, но в каждый момент на освещенную сцену выходит лишь один – то, чему мы осознаём и на что направлено внимание (Global workspace theory – Wikipedia) (Global workspace theory – Wikipedia). Ключевое: элементы информации конкурируют за внимание, и победители получают возможность транслировать своё содержание по всему “театру” (т.е. по различным модулям мозга) (Global workspace theory – Wikipedia) (Global workspace theory – Wikipedia). По сути, это когнитивная реализация дарвиновского отбора: идеи, которые сильнее привлекают внимание (например, своей новизной или связью с актуальными потребностями), вытесняют слабые. Эта модель согласуется с представлением пользователя о «борьбе смыслов». Если рассмотреть каждый смысл как функционального “агента”, то сознание – это арена, где агенты соревнуются за ресурсы (внимание, рабочую память) и образуют временные коалиции. К примеру, при решении задачи разные гипотезы борются в уме, пока одна не станет явной мыслью, оттеснив остальные. Нейрофизиологически конкуренция может реализовываться через механизмы взаимного торможения нейронных ансамблей и через петли внимания (таламокортикальные цирcuits). Так или иначе, теория глобального рабочего пространства подтверждает: психика можно мыслить как популяцию смысловых единиц, находящихся в состоянии постоянной конкуренции и отбора.
Иерархия и объединение смыслов. Помимо конкуренции, присутствует и кооперация – смыслы образуют иерархические структуры. У пользователя это отражено термином “корпорации” – т.е. смысловые объединения. В когнитивной психологии аналог – схемы и фреймы, которые объединяют множество элементарных знаний в более крупные узлы. Например, отдельные понятия («стол», «стул», «обед») объединяются в схему “кухня”. В памяти такие объединения можно моделировать через семантические сети: узлы-концепты связаны ассоциативными связями разной прочности (Semantic memory – Wikipedia) (Semantic memory – Wikipedia). Когнитивные исследования показывают, что активация одного понятия способна распространяться по сети к связанным (принцип распространения активации), что облегчает извлечение связанных знаний – эффект прайминга (Semantic memory – Wikipedia) (Semantic memory – Wikipedia). Это означает, что смыслы не только конкурируют, но и поддерживают друг друга: активация идеи может подтянуть (“подсветить”) сопутствующие идеи. Следовательно, сильные связи между смыслами формируют устойчивые группировки – иерархии знаний. В нейрофизиологии близкую картину описал психиатр Карл Прибрам (голографическая теория памяти) и нейробиолог Валентин Браздар (нейронные ансамбли). Группы нейронов, совместно активируемые многократно, образуют так называемые «целл-ассамблии» (по Хеббу) – функциональные единицы, которые ведут себя как одно целое при последующей активации. Такие ансамбли можно считать “нейронным эквивалентом смыслов”. Из них строятся более крупные комплексы, вплоть до целостных сценариев или моделей мира в мозге.
Таким образом, в сравнениях с теориями меметики, эволюции знания и глобального рабочего пространства идея смыслов как активных эгоистичных единиц психики находит убедительные параллели. Человеческий интеллект можно представить как результат эволюции идей в мозге, где происходит и отбор (Баарс, Кэмпбелл), и кооперативное накопление в сети (семантические сети, мемплексы). Концепция пользователя во многом синтезирует эти аспекты, предлагая видеть в психике не монолитный разум, а экосистему множества “мыслеформ”.
3. Взаимодействие смыслов: любовь как антиэнтропийная сила
Смысловая аффинность и резонанс. Важно, что в модели пользователя помимо конкуренции смыслов вводится понятие их «любви» – то есть особой притягательности или совместимости между некоторыми смыслами. Под «любовью» здесь можно понимать смысловую аффинность: некоторые идеи естественно притягиваются друг к другу, объединяются в более устойчивые группы, создавая порядок вместо хаоса. Если конкуренция – это аналог энтропии (стремление к разрозненности), то любовь – антиэнтропийный фактор, ведущий к усложнению и интеграции. Такой подход имеет эмоционально-метафорический оттенок, но ему можно найти соответствия в науке о мышлении.
Одно из близких понятий – когнитивный резонанс. Это феномен, когда две или более идеи взаимно усиливают друг друга при совместном наличии. Например, согласующиеся убеждения приносят чувство уверенности, а противоречащие – диссонанс. Когнитивная согласованность (консонанс) – можно сказать, форма «резонанса смыслов», при которой их одновременное присутствие создаёт гармоничное состояние психики. В нейронном плане резонанс может соответствовать синхронизации нейронных осцилляций: когда две сети настроены на близкую частоту, они легче обмениваются сигналами. Исследования показывают, что связанные по смыслу стимулы вызывают согласованные ритмы мозга (например, гамма-ритм объединяет разрозненные восприятия в единый образ). Следовательно, «аффинные» смыслы могут буквально входить в нейронный резонанс, стабилизируя друг друга.
Роль эмоций в организации мышления. Концепция “любви между смыслами” непосредственно отсылает к роли эмоций. Эмоции в психике выполняют функцию оценок – они связывают факты с субъективной значимостью. Антонио Дамасио объясняет это через соматические маркеры: каждый опыт помечается телесно-эмоциональным «маркером» (ощущением приятного или неприятного), и при встрече с подобной ситуацией эмоция автоматически подсказывает, хороша она или плоха (Somatic marker hypothesis – Wikipedia) (Somatic marker hypothesis – Wikipedia). Таким образом, эмоциональные связи действуют как своего рода «аффинность» между идеями и реакциями: позитивный маркер притягивает нас повторить ситуацию (причинно связывает контекст и удовольствие), негативный – отталкивает. Можно сказать, что эмоции создают поле притяжения и отталкивания смыслов. Например, идея, связанная с сильной положительной эмоцией (любовью, радостью), будет упорно удерживаться в сознании и ассоциироваться с другими позитивными идеями. Наоборот, травматический смысл с негативной окраской либо вытесняется, либо вызывает вокруг себя «ореол» тревожных мыслей. В модели пользователя любовь – антиэнтропийна, потому что положительная эмоциональная связь скрепляет смыслы, не давая им хаотически распасться. Это соответствует взглядам Дамасио: эмоции обеспечивают интеграцию опыта, помогая выстраивать более устойчивые схемы поведения, что адаптивно (Somatic marker hypothesis – Wikipedia) (Somatic marker hypothesis – Wikipedia).
Нейронаука эмоций, основанная работами Яака Панксеппа, даёт примеры фундаментальных “сил притяжения” в мозге. Панксепп выделил эволюционно древние эмоциональные системы, среди которых есть CARE (забота/привязанность) – по сути, материнская любовь – и PLAY (игра), способствующая социальной сплочённости, а также SEEKING (поиск/интерес) – драйв исследовать и получать награды ( Affective Neuroscience Theory and Personality: An Update – PMC ) ( Affective Neuroscience Theory and Personality: An Update – PMC ). Активность системы CARE ведёт к тому, что мозг буквально генерирует чувство любви и привязанности к другим – это проявляется в выбросе окситоцина, удовольствии от близости и т.д. Внутри психики действие CARE можно рассматривать как формирование прочных позитивных связей между образами «я» и «другой». Человек, которого мы любим, становится “частью нас” в смысловом пространстве. Если экстраполировать эту идею, “любовь” между смыслами – это когда сочетание двух идей даёт мозгу позитивное подкрепление (удовольствие, гармонию). Тогда такие идеи будут стремиться возникать вместе. Например, научная гипотеза, которая красиво объясняет наблюдения, вызывает почти эстетическое удовольствие у учёного – здесь между абстрактными смыслами возникает резонанс, сходный с любовью к истине.
Кроме того, любовь можно понимать не только как эмоцию привязанности, но и шире – как ценность, придающую структуру деятельности. Эрих Фромм философски рассматривал любовь как активную силу единения человека с миром. Он писал, что без любви (к людям, к делу, к жизни) человек ощущает изоляцию и разобщённость, что ведёт к дезинтеграции личности (Erich Fromm: How to Become a Loving Person | Daily Philosophy). Любовь же преодолевает эту сепарацию, создавая чувство единства с другими и с самим собой (Erich Fromm: How to Become a Loving Person | Daily Philosophy). В терминах пользователя, любовь снижает энтропию психики тем, что обеспечивает смысловую связность между индивидуумами и внутри индивида. Если человек “любит жизнь”, то разнородные впечатления связываются общим позитивным отношением, формируя цельную картину. Фромм также противопоставлял творческую, созидательную любовь – силе деструкции. Это очень близко к уже упомянутому фрейдовскому дуализму Эроса и Танатоса. Не случайно Фрейд связывал Эрос с преодолением энтропии: Эрос “стремится к более высоким объединениям жизни” (Freud’s Eros and Thanatos Theory: Life and Death Drives), то есть фактически борется с разложением системы. Любовь, понимаемая как Эрос – это принцип организации и усложнения психики. В русле концепции пользователя можно интерпретировать любовь как принцип интеграции смыслов, создающий из их разрозненной совокупности органичное целое (личность).
Таким образом, компонент “антиэнтропийной любви” в модели пользователя находит поддержку в разных уровнях анализа: нейрофизиологическом (эмоциональные системы, механизмы вознаграждения), психологическом (принцип удовольствия, консонанс и потребность в связанности) и философском (любовь как единство и смыслообразование). Психика – не только «война идей», но и их «сотрудничество по любви», и без этого второго элемента она распалась бы на хаотичный набор ощущений. Современные данные о роли эмоций в когнитивных процессах подтверждают: значимая, эмоционально окрашенная связь между элементами опыта резко повышает устойчивость и упорядоченность ментальных структур (Freud’s Eros and Thanatos Theory: Life and Death Drives).
4. Психика как организм смыслов: самоорганизация и эволюция
Аналогия с живым организмом. Пользователь предлагает смотреть на совокупность смыслов в психике как на живой организм. Действительно, если принять, что смыслы способны к самовоспроизведению, конкуренции и кооперации, то они образуют популяцию, развивающуюся по принципам эволюции. В этом “организме смыслов” можно условно различить “клетки” – элементарные смыслы, “ткани” – устойчивые группы идей, “органы” – крупные функциональные блоки личности (например, убеждения, ценности). Организм характеризуется внутренней согласованностью и способностью к самоподдержанию – так же и здоровая психика стремится к целостности, поддерживает психический гомеостаз. Эта биологическая метафора находит отклик в теориях самоорганизации мозга.
В нейродинамике есть представление о мозге как о системе, находящейся на грани хаоса и порядка, способной самопроизвольно формировать устойчивые состояния – аттракторы. Ещё Джон Хопфилд показал на моделях нейронных сетей, что динамика сети может иметь несколько стабильных состояний, соответствующих запомненным шаблонам (Attractor network – Wikipedia). При предъявлении искажённого или частичного стимула сеть возвращается к ближайшему из этих аттракторов – происходит восстановление целого образа по фрагменту, как при узнавании. Это свойство – content-addressable memory – делает сеть похожей на организм, реагирующий целостно и устойчиво на знакомые ситуации. Хопфилдовские сети продемонстрировали принцип: коллективная активность множества нейронов может порождать новые качественные состояния, не сводимые к отдельным нейронам. Такие состояния и соответствуют “мыслям” или “смыслам”, которые появляются, исчезают и конкурируют. Но важнее, что вся сеть работает согласованно, словно организм, стремясь вернуться к устойчивым паттернам (аттракторам). Это перекликается с идеей, что психика поддерживает целостность – она как бы притягивается к знакомым состояниям равновесия.



