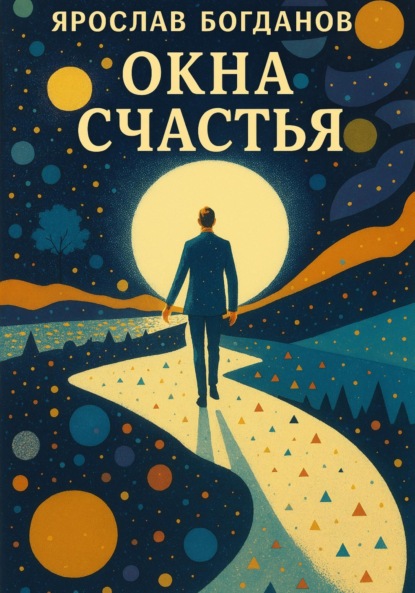
Полная версия:
Окна счастья
Алгоритмичность формы. Музыкальная форма часто подчиняется чёткому алгоритму или плану, что усиливает однозначность смысла. Многие жанры имеют фиксированную структуру (например, сонатная форма с экспозицией, разработкой и репризой), и композитор, следуя этой структуре, как бы ведёт аргументацию в звуках. Даже импровизация джаза опирается на заданный цикл аккордов (хороший импровизатор «обходит» гармонию по правилам). Это сродни тому, как в языке логическая форма высказывания задаёт смысловые рамки. Алгоритмичность проявляется и в ритмических узорах (поп-музыка часто строится куплетно-припевным повторяющимся алгоритмом) и в развитии тем (фуга Баха – практически строгий алгоритм имитаций темы). Такая упорядоченность позволяет музыке передавать сложные идеи. Например, баховская фуга может символизировать торжество порядка над хаосом – именно потому, что композитор демонстрирует строгий алгоритм развития музыкальной мысли из одной темы. Алгоритмичность облегчает восприятие: мозг слушателя предугадывает повторения и вариации, активно участвуя в процессе (как бы «просчитывая» дальнейшее течение музыки). Можно сказать, музыка делает логику слышимой. Недаром математик Лейбниц видел в ней упражнение в счёте. Конечно, не всякая музыка столь формальна – но даже в авангардных жанрах структура (алгоритм) важна: например, сериальная музыка ХХ века строилась на строгой 12-тоновой последовательности (серии), определяющей все ноты пьесы. В итоге алгоритмическая природа музыки придаёт ей логосоподобность: музыкальное высказывание может быть таким же строго организованным, как рассуждение, только органон его – не логика слов, а логика звуковых отношений.
Архитектура эмоций во времени. Американский философ С. Лангер метко заметила: «Музыка делает время слышимым, придавая форму и непрерывность его течению» ([PDF] Music as Sound Spirituality – The Way). Действительно, музыка выстраивает своего рода психологическое время, наполняя его переживаниями с определённой драматургией. Если обычный язык развертывает мысли во времени, то музыка развертывает чувства во времени. Можно говорить об архитектуре эмоций: композитор как архитектор располагает эмоциональные состояния, чередует контрасты, возвращает темы (эмоциональные «воспоминания»), тем самым конструируя целостный эмоциональный опыт с началом, развитием, кульминацией и концом. Например, симфония может начинаться тревожно, затем перейти через борьбу к ликующей кульминации – это осмысленная архитектоника, понятная слушателю без единого слова (как в Пятой симфонии Бетховена – путь от «тьмы к свету» выражен чисто музыкально). Музыка обладает уникальной способностью моделировать протяжённые процессы чувств. Она не просто вызывает мгновенное чувство, но ведёт слушающего через смену эмоциональных фаз. В этом смысле она ближе всего к наративу (повествованию): музыкальное произведение – это рассказ, где вместо событий и персонажей действуют эмоции и настроения. Психологически такое проживание событий в звуках может быть даже сильнее литературного, поскольку обходится без фильтра интеллекта, воздействуя непосредственнее. Архитектура музыкального времени создаёт у слушателя ощущение завершённости переживания: как после хорошего фильма или романа, после хорошей сонаты мы чувствуем, что совершили внутреннее путешествие и смысл его ясен, пусть и невербализуем. В итоге музыка структурирует поток времени, делая его носителем смыслового содержания – содержание это есть эмоциональная форма, «ощущаемый смысл».
Аналоги грамматики: ритм, мелодия, гармония. Если попытаться провести параллели с грамматическими категориями языка, можно отметить следующее. Ритм и метр – это аналог синтаксиса на уровне организации времени, своего рода «пунктуация» музыки. Они задают разбиение на такты (условно – «слоги» и «фразы»), расставляют акценты («ударения»). Интонация и мелодия – ближайший аналог интонации речи и лексики: выразительный изгиб мелодии эквивалентен эмоциональной окраске фразы. Не случайно понятие «интонация» введено музыковедом Б. Асафьевым обозначает минимальную осмысленную мелодическую форму – то есть то, как звучала бы эмоционально насыщенная фраза, если убрать из неё слова. Гармония (сочетание звуков по высоте) выполняет роль, схожую с семантическим окружением: она задаёт контекст для отдельных звуков, подобно тому как в языке одно слово меняет смысл в зависимости от других (например, эпитет + существительное). Аккорд, в который «окрашена» мелодия, сильно меняет её воспринимаемый смысл – мажорное трезвучие сделает мотив торжественным, а уменьшённый септаккорд – тревожным. То есть гармония – это своего рода «прилагательные» и «обстоятельства» в музыкальной речи, дополняющие главный «сюжет» мелодии. Тембр и регистр инструментов можно уподобить голосовым модуляторам речи: они придают тем или иным звукам характер (как тембр голоса говорит о настроении говорящего). Например, одна и та же мелодия, сыгранная скрипкой и тубой, воспринимается по-разному эмоционально – тембр выступает носителем дополнительного смысла (скрипка – лиричность, туба – массивность и пр.). Наконец, динамика и артикуляция (громкость, легато/стаккато) – это аналог интонационно-синтаксических знаков: паузы, акценты, вопросительная или восклицательная интонация. Fortissimo с резкими акцентами «говорит» как эмоциональный крик, а нежное пианиissimo – как шепот или нежность. Все эти элементы образуют сложную систему, сродни языковой грамматике, но оперирующую непонятийными параметрами. Тем не менее они обеспечивают понятность музыкальной речи для слушателя. Даже если он не может выразить словами, он чувствует: «здесь музыка задала вопрос, тут дала ответ, здесь возник конфликт, а вот наступил финал». То есть происходит понимание структурно-эмоционального смысла через совокупность музыкальных «грамматических» средств.
Итак, музыка, как и язык, имеет строевые элементы и правила их соединения, которыми достигается осмысленность. Но если язык выражает мысли о мире, то музыка выражает отношения и чувства, по сути моделируя работу сознания на дорефлективном уровне – уровне ощущений, динамики настроений. Это и делает музыку уникальной формой смыслообразования: она может сообщать то, что едва уловимо в формулировках. В следующем разделе мы увидим, что эта музыкальная форма понимания имеет глубокие корни в развитии человека и даже предшествует речи у младенцев и, вероятно, наших далеких предков.
5. Онтогенетический и филогенетический контекст
Онтогенез (индивидуальное развитие). Способность воспринимать и создавать как вербальные, так и музыкальные структуры у человека проявляется с раннего детства, причём музыка обнаруживает себя раньше и непосредственнее. Младенцы ещё не понимают слов, но уже остро реагируют на интонацию и мелодию голоса. Исследования показывают, что уже в утробе ребёнок запоминает ритмы и интонации речи матери ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Новорождённые способны различать мелодический контур и высоту звука ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ); например, они замечают, если колыбельную перестроить на другую мелодию. Учёные связывают эту удивительную чувствительность с тем, что материнская речь (так называемое motherese, или «материнский лепет») намеренно музыкальна. Когда взрослые говорят с младенцем, они инстинктивно повышают тон голоса, тянут гласные, вводят напевность и ритм ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Такой интоннационно-богатый стиль речи не случаен: он привлекает внимание ребёнка и эмоционально его питает. Motherese обладает чёткими музыкальными свойствами – более высоким тоном, преувеличенной мелодикой и размеренным ритмом ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). По сути, родители поют своему малышу фразы. В результате ребёнок с первых дней настраивается на музыку речи, улавливая настроение и намерения говорящего по интонации, задолго до того как поймёт значение слов. Можно сказать, протокоммуникация младенца с окружающими – музыкальна по природе.
Важную роль играет и прямое музыкальное взаимодействие – пение колыбельных, потешек. Младенцы демонстрируют предпочтение к пению: экспериментально показано, что они дольше и внимательнее слушают человека, поющего им, чем просто говорящего ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Пение мамы не только развлекает – оно регулирует эмоциональное состояние малыша, успокаивает его, устанавливает прочную эмоциональную связь ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Это позволяет предположить, что восприятие музыкальных паттернов (мелодии, ритма) является базовым механизмом развития мозга. Некоторые исследователи (Тревартен, Диссанаике) считают, что диалог «мать–детя» изначально музыкален: малыш гулит, мать откликается мелодично – так закладывается протоязык, смесь звуковых жестов и эмоций. Интересно, что ранние вокализации младенцев (гуление, лепет) тоже имеют музыкальные черты – определённые интонационные модели – и появляются в определённых ситуациях общения ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Это можно трактовать как проявление врождённой музыкальности мозга.
По мере роста ребёнка вербальные способности берут верх – он учит слова, грамматику. Однако и музыкальность развивается: дети спонтанно поют, напевают «песенки» из нескольких нот, реагируют танцем на музыку. К 4–5 годам большинство детей уже обладают интуитивным чувством ритма и могут воспроизвести простую мелодию. Исследования показывают, что музыкальные навыки коррелируют с языковыми: дети с лучшим чувством ритма обычно лучше воспринимают слоговую структуру слов ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ) ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ), а умение различать высоту звука связано с успеваемостью в языковых задачах. Совместное развитие музыки и речи в онтогенезе говорит о том, что эти способности опираются на частично общие нейронные механизмы. Например, восприятие просодии речи (интонационных рисунков, выражающих вопрос, утверждение, эмоцию) и восприятие мелодии опираются на перекрывающиеся области мозга ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Можно сказать, что детский мозг сначала учится понимать «музыку речи», а уже затем – слова. Это подтверждает гипотезу о приоритетности музыкального начала: мелодико-ритмическая коммуникация служит фундаментом, на котором строится здание языковой способности.
Филогенез (эволюция вида). Вопрос о том, когда и зачем возникла музыка в эволюции человека, остаётся дискуссионным. Тем не менее, многие факты указывают на глубочайшие биологические корни музыкальности. Чарльз Дарвин одним из первых выдвинул гипотезу, что до членораздельной речи древние люди общались посредством музыкальных звуков – певучих призывов, похожих на птичьи песни. В книге «Происхождение человека» (1871) Дарвин писал, что предки человека, вероятно, прежде чем научиться словам, “пели любовные серенады” для привлечения партнеров, подобно тому как самцы птиц поют самкам. Современные версии этой гипотезы – теория «музыланг» (Brown, 2000) или идея протоязыка-сонга (Миттен, 2005) – предполагают, что единой предковой системой коммуникации у Homo sapiens была эмоционально-мелодическая «речь-песня», из которой потом дифференцировались и музыка, и язык ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ). Аргументы в пользу этого: музыка не имеет очевидной утилитарной функции (не помогает прямо выживать), но повсеместна – значит, вероятно, выполняла важную социально-эволюционную роль (сплочение племени, ритуалы, ухаживание). Кроме того, у самых древних людей (кроманьонцев) найдено множество музыкальных инструментов (флейты из кости возрастом ~40 тыс. лет), что указывает на давность традиции музицирования. Вероятно, человеческий мозг эволюционировал уже с способностью к восприятию сложных звуковых структур, поскольку эта способность давала преимущества. Некоторые авторы (эндокринолог Фитч) полагают, что музыка могла возникнуть как побочный продукт развития речи, но учитывая, что даже грудные дети реагируют на музыку сразу ( Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in Pre-schoolers – PMC ), становится правдоподобной и обратная картина: сначала развилась эмоционально-звуковая коммуникация, а потом она обогатилась артикулированными словами.
Дополнительный штрих – наличие элементов «музыки» у животных. Это не прямое доказательство, но показывает, что предпосылки музыкальности не уникальны человеку. Птицы – яркий пример: множество видов птиц обладают сложными песнями, которые они используют для коммуникации. Птичьи песни имеют синтаксис (повторяющиеся мотивы, комбинации звуков), передаются через научение (молодые птицы учатся пению у взрослых – явление культурной передачи). Например, соловей или малиновка исполняют последовательности фраз с вариациями – некий аналог импровизации на тему. Интересно, что нейрофизиология птичьего пения имеет параллели с речью человека: в мозге певчих птиц есть центры, отвечающие за запоминание и воспроизведение песен, их повреждение нарушает «вокализацию». Конечно, птичий «язык» очень ограничен функционально (привлечение партнёра, обозначение территории), но структурно он напоминает примитивную музыку.
Ещё более удивительный случай – киты. Горбатые киты исполняют продолжительные песни, которые состоят из повторяющихся тем и мотивов, образующих составную форму. Все киты одной популяции поют схожий «хит сезона», который со временем эволюционирует. Исследования зафиксировали, что песни китов подвержены культурной эволюции: новые фрагменты распространяются среди популяций на огромных расстояниях, киты перенимают друг у друга элементы песен (Global cultural evolutionary model of humpback whale song – Journals). Научный анализ акустических записей китовых песен обнаружил даже статистические закономерности, сходные с законами человеческого языка – например, распределение длины звуков по закону Ципфа (чаще короткие элементы, реже длинные) (Whale song shows language-like statistical structure | Science) (Whale song shows language-like statistical structure | Science), что обычно связано с оптимизацией информационной передачи. Это говорит о конвергентной эволюции: и у китов, и у людей вокальная коммуникация приобрела черты сложной структурности, вероятно, по причине схожих потребностей в обучении и передаче сигналов (Whale song shows language-like statistical structure | Science). Конечно, семантика китовых песен остаётся для нас загадкой – возможно, она так же эмоциональна, как и человеческая музыка.
Что касается ближайших нам существ – приматов, – они менее музыкальны, чем птицы или киты, но и у них наблюдаются прообразы музыкального поведения. Например, гиббоны (человекообразные обезьяны) издают громкие мелодичные крики, образующие дуэты самца и самки – фактически «песни» для маркировки территории. Структура песни врождённая (каждый вид гиббонов поёт свои мотивы), но для слаженного дуэта партнёрам нужно приспособиться друг к другу, что намекает на наличие чувства ритма (они поют синхронно) (Yellow-cheeked gibbons singing – Earth.fm). Другой пример – ритмическая активность шимпанзе: известно, что шимпанзе в возбужденном состоянии любят ритмично барабанить по стволам деревьев руками и ногами. Это барабанивание имеет ровный темп, отдельные особи узнаются по «стилю» игры, а другие иногда подхватывают ритм – нечто вроде зачатков совместного музициирования. Учёные предполагают, что такая способность к ритму могла быть основой для групповой музыкальной активности у древних гоминидов (танцы, хлопки).
Все эти данные указывают: музыкальность вплетена в нашу биологию и эволюцию. Она не случайный развлекательный придаток, а сущностная черта Homo sapiens. Человек – «animal musicum», музыкальное животное, не менее чем говорящее. И индивидуальное развитие, и сравнительная зоология убеждают, что музыка лежит в основании формирования сознания и коммуникации. Когда мы используем музыку для выражения чувств, мы задействуем очень древний и фундаментальный слой психики. Далее мы рассмотрим, как именно мозг реализует музыкальный смысл и чем нейронно отличается восприятие музыки от восприятия речи.
6. Музыкальный смысл в нейронауке
Современная нейронаука позволила заглянуть в мозг и увидеть, какие структуры участвуют в восприятии и создании музыки. Оказалось, что музыка активирует широкие нейронные сети, охватывающие как области, связанные с обработкой звуков, так и эмоциональные и когнитивные центры мозга.
Прежде всего, музыка, будучи звуковым стимулом, конечно, обрабатывается слуховой корой (в височных долях). Но здесь есть нюанс: в то время как простые звуки (шумы, отдельные тоны) активируют главным образом первичную слуховую кору, сложная музыка (мелодии, аккорды) задействует и более высокоуровневые зоны – ассоциативные области, отвечающие за распознавание образов и последовательностей. Например, обнаружено, что прослушивание любимой музыки ведёт к активности не только в слуховой коре, но и в областях памяти (гиппокамп), внимания и ожидания (лобные доли). Это связано с тем, что мозг пытается «понять» музыку, предсказать её развитие, сопоставить с уже знакомыми мелодиями, хранящимися в памяти. Таким образом, восприятие музыки – не пассивный анализ звука, а активный когнитивный процесс.
Особый интерес представляет то, как музыка возбуждает эмоциональные центры мозга. Многочисленные эксперименты с ПЭТ и фМРТ показали, что эмоционально значимая музыка (та, что вызывает мурашки, сильное удовольствие) активирует систему вознаграждения – те же самые глубинные структуры, которые реагируют на удовлетворение биологических потребностей и на получение удовольствия от еды, секса или наркотических веществ (Brain's music pleasure zone identified | Neuroscience | The Guardian) (Brain's music pleasure zone identified | Neuroscience | The Guardian). В частности, ключевая роль принадлежит ядру accumbens (nucl. accumbens) – узлу в центре мозга, связанному с выбросом дофамина, «гормона удовольствия». Когда любимый музыкальный момент (например, кульминационный аккорд) наступает, в accumbens выделяется дофамин – то же вещество, что дарит чувство радости при вкусной пище или эйфорию от наркотиков (Brain's music pleasure zone identified | Neuroscience | The Guardian). Интересно, что у музыки есть способность предвосхищать удовольствие: исследование Salimpoor et al. (2011) показало, что дофамин выходит в два этапа – сначала при ожидании кульминации, затем при её переживании (Anatomically distinct dopamine release during anticipation and …). Это означает, что мозг активно строит ожидание музыкального разрешения, и когда оно оправдывается, запускается мощное подкрепление. Как образно заметила сама В. Салимпур, «музыка так эмоционально сильна благодаря созданию ожиданий» – nucleus accumbens включается, когда музыкальные ожидания слушателя подтверждаются или превосходятся (Brain's music pleasure zone identified | Neuroscience | The Guardian). Таким образом, музыка “взламывает” систему вознаграждения, эволюционно предназначенную для выживания, и использует её для чисто абстрактного удовольствия – этим музыка уникальна, она даёт нам «когнитивную награду» без материального подкрепления (Brain's music pleasure zone identified | Neuroscience | The Guardian).
Помимо системы вознаграждения, музыка активирует лимбическую систему – амигдалу (миндалевидное тело), гипоталамус, орбитофронтальную кору. Эти структуры участвуют в распознавании эмоциональной окраски. Например, миндалевидное тело реагирует по-разному на диссонанс (вызывает у нее “тревогу”) и на консонанс (приятные созвучия), что соответствует субъективным ощущениям беспокойства или умиротворения от музыки. Музыка, вызывающая грусть, активирует области, связанные с сочувствием и социальными эмоциями, тогда как энергичная радостная музыка – зоны, связанные с возбуждением и двигательными реакциями. То есть нейронная картина эмоций от музыки сходна с эмоциями от реальных событий. Мозг в некотором смысле не различает музыку и «настоящую жизнь» в плане базовых аффектов: трагическая мелодия способна огорчить нас почти так же, как реальная потеря, а страшный саундтрек активирует центры страха, даже если мы понимаем, что угрозы нет.
Другой блок – когиция и моторика. Музыка имеет выраженный ритмический компонент, который напрямую влияет на двигательные системы мозга. Зона преддвигательной коры и мозжечок реагируют на ритм, даже когда мы неподвижно слушаем: мозг как бы прохлопывает такт внутренне. Это объясняет, почему трудно усидеть под музыку – нейроны движения резонируют. Более того, в мозге профессиональных музыкантов наблюдается прочная связь между слуховыми и двигательными областями (через пучок нервных волокон – дугообразный пучок) ( Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity – PMC ). Это результат тренировки: играя на инструменте, музыкант связывает моторный жест и звучащий результат. Но и у слушателя-публики музыка способна вызывать моторные образы – например, представляясь танцем или игрой на инструменте.
Связь музыки с языком тоже имеет нейронный аспект. Исследования показали, что обработка музыкального синтаксиса (например, неожиданного аккорда) активирует области в лобной доле (в частности, зону Брока), которые участвуют и в обработке грамматики речи. Стефан Кёльш и др. в 2000-х обнаружили эффект ERR (событийного потенциала) на неверные аккорды, схожий с реакцией на синтаксические ошибки в предложении. Это свидетельствует, что мозг использует схожие механизмы для отслеживания структуры последовательностей звуков – будь то слова или ноты. Конечно, области эти только частично перекрываются, но факт остается: музыка и речь – «соседи» в мозгу, их нейронные сети взаимодействуют. Вероятно, поэтому музыкальные тренировки могут улучшать языковые навыки (и применяются, например, для терапии речи после инсульта – метод мелодической интонации, когда пение задействует правое полушарие, помогая восстановить речевые функции).
Отдельно стоит сказать о нейропластичности под влиянием музыки. Мозг человека удивительно пластичен, и музыка – один из мощных факторов, структурирующих эту пластичность. У профессиональных музыкантов обнаружены заметные анатомические различия: например, передняя часть мозолистого тела (соединяющего полушария) у них больше, особенно если обучение началось в раннем детстве ( Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity – PMC ). Это значит лучшее взаимодействие между полушариями – что необходимо, скажем, пианисту, координирующему две руки. Также у музыкантов увеличен сенсомоторный регион, контролирующий пальцы, и слуховая кора тоньше дифференцирует частоты. Исследование с МРТ показало, что у скрипачей область соматосенсорной коры, отвечающая за пальцы левой (играющей на грифе) руки, шире, чем обычно – пример локальной пластичности под действием многолетней практики. Интересно, что даже прослушивание музыки может влиять на мозг. У пожилых людей с деменцией регулярное проигрывание знакомых мелодий улучшает активность памяти – можно видеть на ФМРТ вспышки в гиппокампе, когда звучит любимая песня. Музыка способна стимулировать нейрогенез (образование новых связей): в экспериментах на животных обогащенная звуками среда приводила к росту дендритов в слуховой коре.



