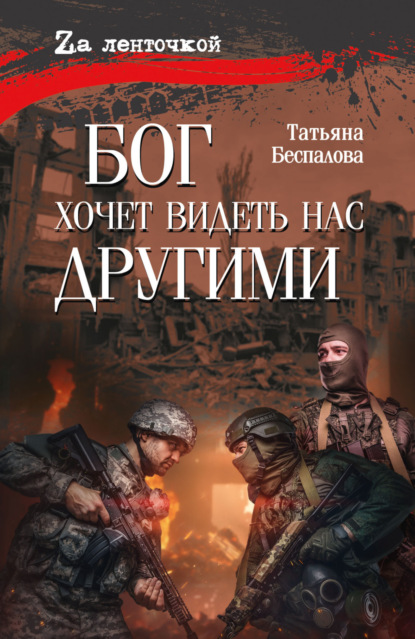
Полная версия:
Бог хочет видеть нас другими
Пана Пивторака снаряжала на войну большая и дружная киевская родня. Денег не жалели. Не одну тысячу долларов вложили в пана, и вот сидит он теперь такой модный… А что толку? Вчера миномётный расчет на своей куге эвакуировал раненых. Соломаха лично занимался перевязкой. А потом ещё кузов отмывали от говна и крови. Насмотрелись. Натерпелись. Вони нанюхались. Воплей наслушались. У Воина и Соломахи в бородах седины добавилось. Форму запятнали, а не до стирки сейчас. Ну а молодёжь – она и есть молодёжь. Всё им «кринж» да «зашквар», а на сердце броня, до сердца не доходит. Молодой ум полон иллюзий, и жизнь кажется вечной, даже если вокруг массово гибнут люди. Каждый из них мыслит: со мной такого случиться не может. Только не со мной. Отсюда и бесшабашная смелость и у селюка из-под Винницы, и у киевского хипстера, и даже у харьковчанина Птахи, который воюет не первый месяц и на глазах которого в апреле этого года погибла половина их миномётного расчёта. Собственно, Свист и Клоун заступили на места выбывших двухсотых.
– Селюк ты или не селюк, – продолжал Воин, – а понимать обязан. Мы учимся по уставам армии СССР, то есть Красной армии. А ещё ты должен понимать какая сейчас тема. Сейчас армия СССР как бы воюет сама с собой, потому что офицеры обеих армий прошли советскую военную выучку и воюют советским оружием. Таким образом, наставление это на русском языке должно нормально вам заходить. Таким образом, от русского языка мы пока не можем окончательно отказаться. Зрозуміли?
Молодёжь по-ишачьи закивала головами. Только пан Пивторак изобразил на лице некое сомнение.
– А как же с этими быть? У них какая выучка?
Он указал в ту сторону, где у двух пикапов тусовалась совсем другая компания. Соломаха и по именам бы их и не назвал. Для всех у него было одно лишь общее название – черти. Вылитые, чистые черти. Рогатые, хвостатые, лукавые, жестокие.
– Это наши друзья, – толерантно заявил Воин. – Они помогают нам отстаивать независимость Родины. Несмотря на то, что эти люди работают по найму… но вы-то тоже получаете довольствие…
–Два місяці воюємо, а нічого ще не отримували…[6] – прогундел Клоун.
– Скоро ты своё получишь, – усмехнулся Птаха.
– Молчать, когда командир говорит! Повторяю, несмотря на то, что эти люди наёмники, они помогают нам бескорыстно отстаивать независимость нашей Родины от лап восточного монстра. Эти люди прибыли к нам из разных уголков Европы. В каком-то смысле, это интернациональная бригада. Вот только имён их я не упомню…
В этом месте командир слукавил. Прекрасно помнил он имена панов из Европы. Запечатлел их, так сказать, на скрижалях памяти. А называть не хочет из понятной и простительной брезгливости. Зачем марать язык о такую мразь?
– Могу перечислить всех поимённо, – улыбка Птахи становилась всё шире. – С кого начать?
–Ти по українськи не размовляе?– возразил Тимофей-Клоун.– Мою вуха втомилися від орочьей мови![7]
– Каценеленбоген на любом языке Каценеленбоген, – парировал Птаха. – Тенгиз Тадеушевич. Какой породы этот зверь? Сам он называет себя коммунистом. Що це таке?
– Коминтерн. Третий интернационал, который Сталин гнобил, – буркнул себе под нос политграмотный Соломаха.
Завязался оживлённый спор, в котором были упомянуты товарищи коммуниста (коммунистические взгляды, как известно, предполагают атеизм) Каценеленбогена: католики Джозеп Кик, Илия Глюкс, Ян Бессон (предположительно поляки, хоть по звучанию имён этого и не скажешь), а также преподобный Альфред Уолли Крисуэл, баптистский капеллан, с которым католики вели постоянные теологические споры. О теологических спорах в среде иностранцев миномётный расчёт Воина информировал пан Свист-Пивторак, прекрасно владевший английским языком. В ходе обсуждения «хохлуша» Тимофей именовал Джозепа Кика Жопезом, а остальных педарастами, не утруждая свой неповоротливый язык выговором чуждых имён. Птаха окрестил компанию на пикапах не менее метко – пиявками. Только Виллема Ценг Колодко, являвшегося у иностранцев чем-то вроде старшины, шершавым языком не трогали, потому что Виллема Ценг Колодко боялись все. Даже стоявший «над схваткой» Воин старался не смотреть в его сторону.
История с расстрелом так называемых дезертиров волновала миномётчиков до сих пор. И не только их. Всё подразделение комбата Сапонько находилось под впечатлением от того, с какой готовностью Виллем Ценг Колодко вывел расстрельную команду, состоявшую из коммуниста и капеллана к месту казни. Каждый из бойцов 128-го подразделения эту драму трактовал по-своему. Соломаха поклялся отомстить, невзирая на последствия. Причём мстить он собирался не только наёмникам, но и самому комбату Сапонько. Птаха надеялся во что бы то ни стало избежать участи жертвы. Дядя Серёжа подумывал о том, как ловчее организовать утилизацию внутреннего врага, которого видел в наёмниках, не подставив при этом под удар ни себя, ни Соломаху. Клоун и Свист ничего относительно наёмников не помышляли. Им бы пережить первый серьёзный артобстрел. Им бы при первой же серьёзной стычке не сдрейфить, не сдаться противнику или смерти. Сейчас, исполняя роль «блуждающего миномёта», они выступают в амплуа дичи для отчаянного, но не слишком-то удачливого охотника. Но настанет осень. Окрестные поля размякнут от влаги. Дороги сделаются труднопроходимыми даже для танков. Тогда их спасательный круг, куга, превратится в камень на шее. Военное счастье может перемениться, как уже было однажды, когда российский наводчик залепил 155-миллиметровый снаряд точно в цель.
* * *Воин ещё раз оглядел своих подчинённых, мысленно пересчитав их по головам: улыбчивый Птаха, хитрый Свист, туповатый, но простодушный Клоун… Соломаха не в счёт. За этого он спокоен, но вот молодёжь – иное дело. Если Воин потеряет их, едва обучив, то как станет дальше войну воевать? Санитарные потери – это одно дело. А вот тыловые делишки, когда тебе шьют измену, или определяют в расстрельную команду, или подвергают каким-либо иным издевательствам, опуская на самое дно адской бездны – это другое. Как станет опущенный солдат исполнять свою тяжёлую работу? Как с совестью своей станет уживаться?
– Вы вот что, молодёжь. Птаха, Свист, Клоун – к вам обращаюсь. Если случится что-то… приставание со стороны этих … – Воин указал глазами в сторону пикапов. – То немедленно сообщайте мне или комбату. Вот мне передали из штаба памятку… Сейчас я вам ….
Соломаха с подозрением смотрел, как его невозмутимый, ни при каких обстоятельствах не теряющий присутствия духа командир достаёт из-за пазухи – надо же, в самом надёжном месте сохранял! – свёрнутую трубочкой пачку листовок. Поначалу командир хотел раздать их миномётчикам, но потом передумал, отделил от бумажного цилиндра один листок, а остальное спрятал назад. Начал он вполне официально, читая по листку:
– В условиях увеличения количества иностранного контингента с нетрадиционной сексуальной ориентацией в ЗСУ, солдаты могут быть подвергнуты сексуальному насилию.
Птаха присвистнул, Клоун захихикал, Свист заметно напрягся. Соломаха заскучал. Командир скрепя сердце принялся излагать суть своими словами.
– В руках у меня памятка, где расписаны шаги алгоритма действий в случае попадания в такую ситуацию… Первый шаг: сказать на английском языке «Ай донт уонт ту хэв секс уиз ю»… далее имя наёмника. Второй шаг: обратиться к старшему по званию офицеру с просьбой перевести на другую позицию. Третий шаг: в случае получения травм при насильственных действиях обратиться в медпункт и написать рапорт с детальным описанием событий. Четвёртый шаг: запрещено распространять информацию среди товарищей по службе. Пятый шаг: при необходимости попросить старшего по званию офицера оказать квалифицированную психологическую помощь. Короче, не вариться в собственном соку, а со всем этим говном идти ко мне. Я вас пожалею, ребята.
–Чув, Клоун? Віллем Ценг Колодко зґвалтує тебе, але ти нікому про це не кажі[8], – пояснил киевский хипстер своему побратиму из Винницы.
Клоун рассмеялся. Невысокого роста, но крепкий, с разрядом по боксу, он, конечно же, не принял предостережения командира на свой счёт. Зато Свист задумался. Взгляды, бросаемые им в сторону пикапов, стали более долгими и настороженными.
– Кто ж из пих пидор? Невже все? – едва слышно пробормотал он.
– Коммунист – точно нет. Им мораль запрещает. А вот насчёт капеллана… вполне может быть. Вполне!
Сказав так, Соломаха хлопнул Свиста по плечу. Он знал, что каждый из присутствующих сейчас думает именно о Виллеме Ценг Колодко, но кто ж признается в таком?
А потом командир раздал всем задания и ребята отправились их исполнять. Ушли все, даже Птаха, и Соломаха остался один покуривать на своём пеньке. Он не в первый раз замечал, как берегут его, наводчика, товарищи, не нагружая неизбежными бытовыми заботами. В кухонный наряд или для каких-то иных бытовых хлопот он становился только в исключительных случаях, пользуясь, как правило, чисто офицерскими привилегиями. Нет худа без добра. Да, его побратимы убиты при вражеском обстреле, зато сам он уцелел, ни царапинки. Да, ему пришлось вынести тяжёлые переговоры с близкими погибших. В этом вопросе Соломаха стал хорошим подспорьем своему командиру. Зато с мобилизованными новобранцами никаких проблем. Они смелы. Они смогли принять эту войну так же, как принял её сам Соломаха. Они горды тем, что защищают Родину от жестокого агрессора. Какое же в таком случае имеет значение, что Пивторак из Киева при каждом удобном случае, при малейшем затишье или перерыве в тяжёлой военной работе занимается ловлей покемонов, а двадцатилетний пацанчик из Винницы по фамилии Игнатенко практически не может говорить на русском языке – язык и нёбо, видите ли, у него так устроены – и уже набил себе на левой половине груди свастику? В последнем вопросе ему поспособствовала гнида без роду и племени, именуемая Виллемом Ценг Колодко. И это самое Ценг Колодко имеет на Клоуна-Игнатенко виды. Недаром же он вот и сейчас смотрит в их сторону, потому что-то говорит коммунисту Каценеленбогену. Тот отделяется от группы и движется в сторону куги миномётчиков. С головы до пят упакованный в полевую форму, Каценеленбоген похож на черепашку-ниндзя из детского мультика. С головы до пят он обряжен в Future Soldier System. Глаз и кистей рук не видать. Автомат нежно прижимает к груди, как родное дитя. На задачу собрался? А задача его в том, чтобы домогаться до Соломахи?
Что ж, Соломаха готов. У него, правда, обычные АК, броник и шлем. Тактические очки Соломаха не носит, и видеокамера у него на лбу очком не блещет. Зато Соломаха, что называется, отлично мотивирован, а мотивация в солдатском деле ох как много значит!
Соломаха почувствовал, как в груди закипает гнев. Это неприятное чувство, когда горячая волна беспамятства заполняет сначала туловище выше диафрагмы, а потом с токами крови устремляется к голове. В такие минуты он на какое-то время, ослепнув и оглохнув, оказывается орудием адских демонов-убийц. Соломаха боялся таких минут, пытался себя утихомирить, но ему не всегда это удавалось. В этот раз он схватился за телефон, чтобы ещё раз посмотреть нет ли письма от Снежаны. Мысли о жене отвлекут его от надвигающегося Каценеленбогена. Соломаха открыл WhatsApp. Чат 128-го подразделения ЗСУ с комбатом Сапонько в шлеме и тактических очках на аватаре. Сухие губы плотно сомкнуты. Чат пестрит сообщениями: хлопцы делятся впечатлениями от последней стычки с русаками. Соломаха пробежал чат взглядом. Ничего особенного – несколько трёхсотых. Убитых нет. А от жены ни слова и в сети не была уже целых три дня. Может быть, телефон в унитаз нечаянно уронила? Эх, Снежана! Где же ты пропала? Жалось к жене, тревога о ней погасили гнев. Какое ему дело до мразей из бригады Ценга-Колодко, каких-то нехристей и педерастов, когда у него родная жена пропала?
* * *– Как там с перевязочными материалами, Мыкола?
– Какой я тебе Мыкола? Иди на х…
Не пронесло. Каценеленбоген навис над ним, заслоняя жаркое уже солнце. Не сопреет ли ландскнехт под Future Soldier System?
– Чего ты? Обиделся? Та я пошутил. Ты не Мыкола. Ты – Назарий. Видишь, я запомнил твоё имя, – проговорил Каценеленбоген.
Русская его речь казалась чистой, без малейшего акцента, но очень уж правильной, будто говорил не русак, а какой-то робот-автомат.
– Это напрасно. У нас имена не в ходу. Общаемся по позывным, – сдержанно отвечал Соломаха.
– А позывной у тебя «Солома». Стало быть, ты – Назарий Соломаха. Видишь, как много я о тебе знаю!
– Это напрасно, – повторил Соломаха, пересаживаясь так, чтобы навязчивый собеседник не мог видеть дисплей его телефона.
– Что там? С Наташкой своей общаешься?
– Наташки у орков. Я с жинкой. Она мне пишет каждый день.
– Скучаешь?
– Не твоё дело.
– Ну вот. Теперь я знаю о тебе ещё больше. Теперь я знаю, что у тебя есть жена. Кстати, она девочка?
– ?!
– Я в смысле…
– Да пошёл ты!..
Соломаха вскочил. Каким-то образом АК оказался у него в руках. Лязгнуло железо.
– Послушай, Назарий! Эй!
Каценеленбоген стащил с рук феерические перчатки и продемонстрировал Соломахе свои розовые, нежнейшие ладони. Таких ладоней у солдата не может быть. У настоящего солдата ладони покрыты чёрной сеткой въевшейся пороховой пыли и запёкшейся крови. На ладони настоящего солдата линии судьбы высматривать не надо, они видны издалека. А вот Каценеленбоген, называющий себя коммунистом, мажет свои ладошки кремом на ночь и, возможно, делает маникюр.
– До войны моя жена в Херсоне работала мастером маникюра, – внезапно для себя самого брякнул Соломаха. – А потом она вышла за меня замуж и ей больше не надо было работать.
– Ты хороший парень, Назарий, – ответил Каценеленбоген, опускаясь рядом с ним на жухлую траву.
Он стащил с головы свой шлем. При этом видеокамера на нём жалобно зажужжала. Тогда Каценеленбоген нажал на какую-то пряжку на своей груди и всё стихло. Соломаха вздохнул: настоящий киборг. Как такого прибить? Может быть, прямо сейчас прикладом промеж этих ясных голубых глаз? Каценеленбоген действительно представлял из себя довольно приятной наружности нестарого ещё ясноглазого блондина, эдакого слегка постаревшего херувима. Или купидона? Дьявол этих чертей разберёт!
– Тут мы можем говорить не скрываясь. Мои товарищи ни бельмеса по-русски не понимают. А ты можешь называть меня просто Тенги, – проговорил Каценеленбоген.
Соломаха кивнул. Он крепко сомкнул губы, опасаясь, что гнев его и ненависть концентрированной кислотой или обжигающим напалмом выплеснутся наружу через рот.
– Экий ты сердитый, – усмехнулся Каценеленбоген, и усмешка его не была такой симпатичной, как, к примеру, у Птахи. В улыбке рот Каценеленбогена съезжал на сторону, как у паралитика, а глаза его вовсе не умели улыбаться. В херувимских этих глазах застыло неприятное пустое выражение.
– Я слышал, у тебя есть приятель из местных, – продолжал Каценеленбоген. – Старик, постоянно таскающийся по серой зоне.
– Его не получится поймать… – быстро ответил Соломаха.
– Почему?
– Говорят, будто он призрак, а призрака нельзя поймать.
И Соломаха пустился в путаные объяснения. Дескать, этот самый старик, которого подкармливает их миномётный расчёт, по слухам, погиб в самом начале войны под руинами собственного дома. Во всяком случае, так значится в документах.
– В документах? – раздумчиво произнёс Каценеленбоген. – А я думал, что призраки не испытывают голода.
– Он просит – мы и даём, – отрезал Соломаха. – Или ты хочешь, чтобы мы отказали в пище старику?
– Нет-нет! – И Каценеленбоген снова продемонстрировал Соломахе свои розовые ладони. – Я совсем о другом. Это конфиденциально. Доверяю только тебе…
И он вперил в Соломаху свой пустой взгляд. Соломаха молчал, ожидая продолжения.
– Ты не мог бы познакомить меня со стариком? – спросил Каценеленбоген.
– Не знаю, – отрезал Соломаха. – Надо у старика спросить. Обычно Призрак сам знакомится с кем хочет. Если б ты ему был нужен, он бы сам к тебе пришёл.
– По слухам, старик знаток серой зоны, а у меня есть там дело. Без проводника не обойтись.
– Хочешь перебежать к своим – так и скажи.
Соломаха сплюнул. В течение всего этого неприятного ему разговора он не выпускал из рук своего АК и даже сейчас, когда гнев в нём немного поутих, Соломаха готов был на всё. Каценеленбоген молчал. Видимо, обдумывал ответ на последний выпад Соломахи.
– Тогда поставим вопрос так: просто сведи меня с Призраком. Я бы попросил твоего приятеля… Как его? Птаха? Такой хорошенький мальчик…
Пока Каценеленбоген нахваливал Птаху, Соломаха, очищая от кожуры апельсин, думал о своём. Во-первых, есть в августе апельсины – это настоящее извращение. Во-вторых, пусть Каценеленбоген встретится с Призраком. Отправившись на встречу со стариком в серую зону, Каценеленбоген окажется во власти Соломахи. Соломаха может сделать с ним всё, что заблагорассудится и в любой момент. В-третьих, такой тип, как Каценеленбоген, настоящая мина из говна. Русаки и так еле тянут эту войну. Шансов на победу у них нет, потому что таких вот каценеленбогенов в их командирских порядках через одного, а присутствие в их рядах ещё одного отморозка, без сомнения, приблизит печальный финал. Таким образом, Соломаха решился.
– Я поговорю со стариком, – быстро проговорил он.
– Когда? Сегодня? Ты часто с ним встречаешься? Я слышал, он приходит прямо сюда, в расположение, и вы его кормите? Можно мне посмотреть на него для начала? А что твоя жена? Не пишет? Она в Кракове или в Винер-Нойштадте? Винер-Нойштадт – милый городок. Мне доводилось там бывать. Как она устроилась? Нашла работу? Если девочка красивая, то услуги эскорта как раз для неё. Ты не подумай ничего плохого, Назар. В Винер-Нойштадте живут нуждающиеся в уходе старики. Уход за стариками – это не только подать горшок, сделать инъекцию или подать пилюли. Сюда же входит и сопровождение в ночной клуб или на поле для гольфа… Это выгодная, достойная работа. И не обязательно со стариком. Может быть, и со старухой. А у остальных ваших ребят? Я слышал, из всех женаты только Воин и ты…
Каценеленбогена интересовало многое, а апельсин уже кончился. Соломаха вытер липкие пальцы о штаны, стряхнул с бороды апельсиновые семечки. Поднялся на ноги. Посмотрел в лицо врагу, отчего тот разом перезабыл все слова ненавистного им обоим русского языка. Так Соломаха наконец решился реализовать своё давнее намерение: врезать Каценеленбогену по блюдцам.
Каценеленбогена спас прилёт мины, которая с шумом и грохотом разорвалась в непосредственной близости от продуктового склада. Жалобно завыла раненая собака батальонного завхоза. Соломаха кинулся в ближайшую канаву, ожидая новых разрывов. Чёртовы коллеги! Противник перенял их тактику блуждающего миномёта и теперь накрывает в самые неподходящие моменты, а ответить они в данную минуту ничем не могут – тыловые черти не подвезли БК. За первым последовал второй разрыв. Столб земли взметнулся в воздух в непосредственной близости от пикапов наёмников. Соломаха с сожалением отметил, что криков раненых он не слышит.
При начале обстрела Соломаха не валился мордой в землю, как это делает большинство людей, а падал на спину. Он не закрывал глаза, и не только смотрел в небо над собой, но и вертел головой, визуально контролировал происходящее вокруг. На этот раз крыли прицельно по заранее намеченным объектам. Две мины уже разорвались в непосредственной близости от склада БК, который, по счастью, на данный момент был практически пуст. Корректировал огонь квадрокоптер, висевший довольно высоко над раскуроченным и обгорелым вишнёвым садом. Русаки – бестолковые вояки. Нет у них в войсках порядка, а есть пьянство, мародёрство и прочий разброд. Однако в отдельных местах встречаются и иные виды. Воин часто слушал эфир русских. Там какой-то Шумер – комбат или офицер званием пониже – раз от разу отчаянно материл своих подчинённых. Соломаха слышал это собственными ушами, как этот же Шумер – отдал приказание к уничтожению их кочующего миномётного расчёта. Из радиоэфира они узнали и о том, что квадрокоптером, возможно вот этим вот самым, в подразделении русаков управляет какой-то Цикада. Тоже въедливый тип. Жгучий, как кислота. Настоящий хромой чёрт. По слухам, этот самый Цикада уже потерял на фронте одну ногу. Вот бы и вторую ему оторвать! И руки, чтоб уж наверняка. Сколько же раз Соломаха пытался сбить его квадрокоптер? Сколько БК на это дело потрачено? Нет, нету у них в расчёте настоящей дронобойки. А специалисты, подобные Цикаде, на вес золота. Как хочется добраться до Цикады и Шумера. Пролезть ужом в самый их штаб с РПГ в зубах, и прощай Снежана…
В перерывах между разрывами Соломаха слышал голоса хлопцев-побратимов. Птаха звал его, и Соломаха отозвался на зов, а потом, приняв позу поудобней, он поднял автомат. Сбить квадрокоптер из автомата лёжа на спине – не простая задача. Соломаха прицелился, но кто-то опередил его, дав по чёртовому летуну длинную очередь. Летун-корректировщик, словно испугавшись за собственную судьбу, сначала поднялся выше, а потом поплыл в восточном направлении. Соломаха двинулся следом за ним. Сейчас важно не думать о разнесённом миной продовольственном складе и о проклятом Каценеленбогене. Сейчас важно думать только о конкретной боевой задаче – и тогда он обязательно собьёт дрон.
* * *Чёртов корректировщик поднялся ещё выше, превратившись в чёрную точку на выгоревшем небе.
Соломаха пробежал ещё немного и уселся под стеной полуразрушенного дома. Чёрная дыра входа в погреб зияла напротив него. Там во влажной темноте ровным счётом ничего нет – все припасы благоразумно сбежавших хозяев повытаскали ещё в первую неделю пребывания в этом злополучном месте. Теперь в этом погребе устроили отхожее место, и из тёмной глубины навевает нечистотами. Встать бы да захлопнуть дверь, но сил нет. Ноги подкашиваются. Из такого состояния лишь один исход – убить кого-нибудь. Лучше всего, конечно, капеллана-нехристя, но и Каценеленбоген на крайний случай подойдёт. Ишь, сука! Коммунист он, видите ли. Убить, и точка. Убить просто. Соломаха привык убивать. Однако, помнится, Призрак говорил ему, что уничтожать врага можно самыми разнообразными средствами и прямое убийство не всегда лучший способ. Стреляя из автомата или винтовки, ты уничтожишь ровно столько врагов, сколько у тебя пуль, или меньше. И то только в том случае, если ты меткий стрелок. Поражая противника минами, ты фактически действуешь наугад, а Соломахе хотелось наверняка, да с оттяжкой, да с долгой мучительной агонией. Ведь его мать сейчас безвылазно сидит точно в таком же сыром погребе, где пахнет нечистотами. Возможно, впроголодь. И страху натерпелась. А Снежана, жена… Об этом лучше не думать.
Соломаху трясло. Не в силах справиться с собой, он курил одну сигарету за другой. В голову лезли уже откровенно панические мысли. Ему виделась Снежана в объятиях ухоженного старца в шёлковом платке на пупырчатой шее, а потом она же в луже крови с рассечённым горлом. Снежана нежная и неопытная, но порой и ершистая. Правил чужой жизни не знает. Самостоятельные решения принимать не привыкла…
Соломаха задыхается от волнения. Пульс частит. Птахи рядом нет. Поговорить не с кем.
Призрак явился, как всегда, внезапно. Запросто так выбрался из вонючего зева погреба, да и поплыл, ровно Христос над водой. Соломаха ещё раз поразился лёгкой поступи старика. Пожилые люди все поголовно страдают суставами, и походка у них тяжёлая, кривобокая. У всех, но не у Призрака. Призрак на то он и призрак – возникает внезапно, ступает невесомо. Соломаха хорошо изучил повадки Призрака и даже, помнится, проверил его паспорт, в котором было, кстати, написано, что Призрак вовсе не призрак, а Пётр Петрович Ольшанский, 1944 года рождения, уроженец здешних мест и по прописке тоже местный. Призрак многое и рассказал о себе, и рассказ о военной службе на китайской границе, учёбе в Харьковском универе с последующим преподаванием там же китайского языка показался недоверчивому Соломахе вполне правдивым. Также Призрак поведал Соломахе о своих занятиях с учениками местной школы. Призрак несомненно и неплохо знал кроме китайского ещё несколько самых ходовых европейских языков. А на малую свою родину он вернулся после развала СССР, чтобы ухаживать за умирающей матерью. Та ни в какую не хотела отрываться от родимых могил и ехать к сыну в Харьков.
Родимые могилы. Не далее как вчера русня накрыла местное кладбище плотным миномётным огнём повыворотив из земли останки. Вот черти! Нет такой мучительной смерти, которой они не были бы достойны!
– Ты зол, Назарий. Не на меня ли злишься? – тихо проговорил Призрак.
– Здравствуй, дедушка! Как рад видеть тебя!.. Именно сейчас!..
Призрак пожал протянутую руку, и пожатие его было отнюдь не призрачным, но крепким до хруста.
– Волнуешься, Назар? Кого-то из ваших ранило?
Призрак пристально и испытующе рассматривал его. Такому не соврёшь.
– Из наших, дед. И ты наш, свойский… Дело до тебя, и совет нужен.



