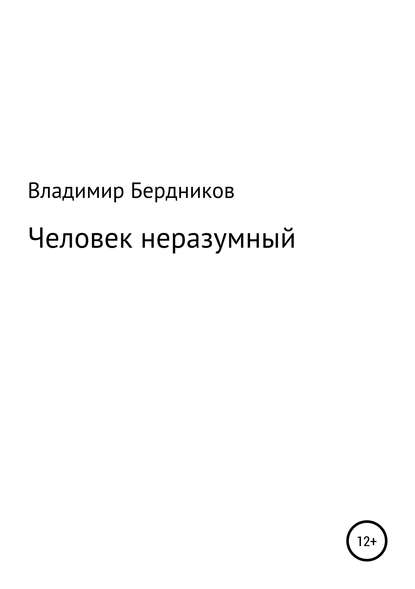 Полная версия
Полная версияЧеловек неразумный
Странно, но последние слова Кедрина возмутили Заломова. Возможно, он воспринял жонглирование великими именами, как вторжение на свою личную, особо охраняемую территорию. Так или иначе, но он разразился пространной тирадой, и речь его снова звучала напористо и убедительно:
– Мы любим тянуть свою родословную от каких-нибудь заметных людей царской России, а на самом-то деле, линии наших предков уходят в прошлое на три миллиарда лет глубже – во времена зарождения самой жизни на Земле. Во времена, когда наша юная, только-только остывшая планета представляла собою сущий ад. Её бескислородная атмосфера была насыщена метаном, аммиаком, сероводородом и прочей дрянью, а в воде было полно ядовитейших соединений, вроде цианидов; да добавьте к тому ещё и жёсткое ультрафиолетовое облучение из-за отсутствия озонового щита. Ясно, что в тех условиях не выжил бы ни один современный биологический вид. Невозможно вообразить, сколько испытаний выпало на долю живых организмов за те бесконечные три миллиарда лет. Но при всякой экологической перемене естественный отбор, без устали выискивая полезные мутации, успевал снабдить носителей жизни обновлённой генетической информацией и тем спасал их от вымирания. Можно выразиться и чуть иначе: естественный отбор успевал снабдить организмы знанием, как выжить в новой окружающей среде. Напрашивается обобщение: именно постоянно действующий естественный отбор наделяет сгустки живой материи способностью познавать внешний мир. Тогда почему нам нужно удивляться познавательной способности нашего разума, созданного тем же естественным отбором для выживания на той же планете? Заметьте, Аркадий Павлович, бездушный естественный отбор, фактически, и есть тот ваш божественный программист, наделивший материю познавательной способностью.
– Дорогой Владислав, да бросьте вы умничать! О каких таких знаниях-познаниях вы речь ведёте? – и как ни старался Кедрин выглядеть корректным, губы его упрямо хранили кривинку презрения.
– Геном любого живого организма содержит тысячи генов, и в большинство их вписано знание внешнего мира, – убеждённо отчеканил Заломов.
– В гены вписаны знания о строении того самого организма, а вовсе не внешнего мира, – мгновенно отпарировал Кедрин.
– Но тогда объясните, зачем, с какой стати, наши слюнные железы вырабатывает фермент амилазу? – бросился в атаку Заломов.
– Вы проверяете, не забыл ли я школьную биохимию, – в глазах Кедрина мелькнула тревога. – Так представьте себе, кое-что я ещё помню. Амилаза нужна нам для расщепления крахмала.
– Отлично, Аркадий Павлович, но в нашем организме нет крахмала. Это высокоэнергетическое вещество создаётся исключительно в зелёных растениях.
– Спасибо за просвещение! а то я не знал эту азбучную истину, – Кедрин уже не пытался скрыть своего раздражения. – Да, Владислав, мне известно, что в наш рацион входят растения, содержащие крахмал. Амилаза помогает извлечь из него глюкозу и тем обеспечивает нас притоком вожделенной энергии.
– А не кажется ли вам, Аркадий Павлович, что, вырабатывая амилазу, наш организм ярче слов демонстрирует, что он «знает» о присутствии во внешнем мире объектов, содержащих крахмал, то есть растений.
– Продолжайте, Владислав, это интересно, – хохотнул Кедрин.
Тут Заломов снова разразился тирадой.
– Обратите внимание, мы рождаемся с готовыми к работе органами чувств. Этот факт можно трактовать и чуть иначе: мы рождаемся с предзнанием того, что во внешнем мире есть объекты, которые можно увидеть, услышать учуять, попробовать на вкус и потрогать. Более того, наш организм будто знает, что некоторые внешние объекты способны от нас быстро удаляться, и их надо как-то догонять, ловить и убивать; и наш организм знает, что во внешнем мире есть опасные объекты, которые хотят догнать и убить нас самих. Иначе как объяснить, что мы рождаемся в полном вооружении: с ногами, руками и зубами, а также с инстинктами, которые подсказывают нам, когда надо догонять, а когда – убегать. Рассуждая сходным образом, нетрудно договориться до вывода: любой живой организм (будь он инфузорией-туфелькой, водяной лилией, дождевым червём, кузнечиком, зверем или птицей) обладает гигантским объёмом врождённых знаний об окружающем мире. И вам хорошо известно, что знания эти вписаны в гены, управляющие ростом и развитием каждого многоклеточного организма.
– И всё-таки, дорогой Владислав, что-то познавать могут только люди. Лишь они обладают логикой – нашим главным инструментом познания, – гордо провещал Кедрин.
Но Заломов сделал попытку и здесь оказаться на высоте:
– А логика эта возникла не на пустом месте. Многие животные с хорошо развитой нервной системой не только «знают» о существовании в их окружении отдельных объектов, но даже «узнают их в лицо». Так собака может узнать своего хозяина в любой толпе и сохранять привязанность к нему в течение многих лет. А разве вы никогда не видели такой картины: хозяин зашёл в какой-то дом, а его собака осталась сидеть у ворот. Сомнений нет, она ждёт своего господина. Собака будто знает, что он находится именно в этом доме, и его нет в иных местах. Аркадий Павлович, это вам ничего не напоминает?
Заломов замолчал и со смущённой улыбкой стал ждать реакции старшего товарища. Ждать пришлось недолго.
– Владислав, – не на шутку осерчал Кедрин, – это у вас юмор такой или как? Если это юмор, то вы странно шутите. Эко куда занесло! В кармане пять копеек, а товару в калашном ряду на пять целковых хапнуть норовите! Вас послушаешь – так просто обхохочешься. Неужели вы всерьёз полагаете, что ваша, извините, собака знает кое-что из Аристотелевой логики?
– Вообще-то, я не шутил… Зря вы меня так, – обиделся Заломов.
И тут в поведении Кедрина произошла разительная перемена. Он мило улыбнулся и постарался снять эмоциональное напряжение начавшегося было жёсткого спора.
– Владислав, да вы, ради бога, не волнуйтесь и не обижайтесь. Пожалуй, я уж слишком резко побранил вас. Шут его знает, что в головах у братьев наших меньших? Нам бы в своих головах разобраться… Ну-ну. Так что же ещё успели познать эти с виду несмышлёныши?
– Многое. Животные с острым зрением (и позвоночные, и беспозвоночные) «вписали» в свои гены законы геометрической оптики. Некоторые угри и скаты «постигли», принципы работы электрических аккумуляторов. Киты «знают» законы акустики получше инженеров подводных лодок. Неоднократно животные из совершенно неродственных групп овладевали полётом, проявляя поразительные «познания» в аэронавтике. Ну, а про то, как бактерии и прочие микробы «знают» химию, даже и говорить не хочется. Да, практически, нет на Земле источника энергии, чтобы не нашлась микроскопическая тварь, «знающая», как эту энергию извлечь и с выгодой для себя использовать.
Какое-то время Кедрин молчал, но в душе его бушевали страсти. Лицо учёного то хмурилось, то принимало презрительное выражение, то умиротворённо разглаживалось. Наконец положительные эмоции одержали верх, Аркадий Павлович широко улыбнулся и добродушно заключил:
– Ну что ж, молодой человек, пожалуй, и ваша точка зрения на живую материю имеет право на существование, хотя вам ещё следует потрудиться над её более чёткой формулировкой. Пожалуй, вы далеко пойдёте, если, конечно, с пути не собьётесь.
Все трое засмеялись, и все трое были довольны.
Пока наши интеллектуалы занимались решением великих мировоззренческих проблем, в ресторане прибавилось народу. У входа в зал, за двумя сдвинутыми столиками веселилась компания, которая что-то шумно справляла. Седенький сутулый старичок, одетый в белый полотняный костюм и обутый в белые парусиновые тенниски, провозглашал тост. Он стоял спиной к нашим спорщикам, но, взглянув на него, Кедрин встрепенулся и громко воскликнул: «Марат Иваныч, какими судьбами?». Сгорбленный старичок в белом обернулся, и Заломов признал в нём членкора Пивоварова, удивившего его когда-то докладом с невероятным числом невероятных открытий. Членкор привычно прижал голову к правому плечу и задушевно проговорил-пропел: «Дорогой Аркадий Павлыч, добро пожаловать к нашему шалашу!»
– С превеликим удовольствием, милейший Марат Иваныч! Вы не будете против, если я прихвачу с собой и моих юных друзей?
– О чём речь, Аркадий Павлыч? Прошу вас всех троих к нашему столу.
Веселящаяся компания, кроме старенького членкора, насчитывала ещё шестерых человек – двух мужчин и четырёх женщин, почти всех их Заломов уже встречал в Институте. Когда вновь прибывшие расселись, и все немного успокоились, Марат Иванович произнёс краткую речь:
– Дорогие товарищи, друзья и коллеги! Сегодня мы собрались в этом светлом зале по весьма замечательному поводу. В нашей лаборатории получены поразительные результаты. Мы обрабатывали мышей мягкими гамма-лучами и обнаружили, что, вопреки всем ожиданиям, животные, получившие небольшие дозы радиации, стали гораздо быстрее отыскивать пищу, запрятанную в лабиринте! Вы представляете, как помогло бы зверькам такое облучение в дикой природе! И я подумал: «А не имеет ли обнаруженное нами явление какое-то отношение к эволюционному процессу?» И тогда мне припомнился один интересный доклад, слышанный мною пару лет назад в Москве на сессии большой Академии. Докладчиком был весьма авторитетный геофизик – Порфирий Тимофеевич Коронович. Он говорил о магнитных переполюсовках – об удивительных моментах в истории Земли, когда напряжённость магнитного поля нашей планеты вдруг резко спадала, и всё живое на ней подвергалось повышенному облучению из космоса. По мнению Порфирия Тимофеевича, это облучение наносило серьёзный вред биологическим формам материи. Однако наше исследование показывает, что, скорее наоборот, повышенное облучение могло пойти живым существам на пользу, ибо могло повысить скорость их адаптации к окружающей среде. Так давайте же, мои дорогие коллеги, товарищи и друзья, выпьем и закусим за сие замечательное обнаружение!
– Не скромничайте, Марат Иваныч. Чего нам, вернее, чего Вам, стесняться в родном отечестве? Ваше обнаружение вполне тянет на солидное открытие, – встрял со своею похвалой Кедрин.
– Благодарю вас, Аркадий Павлыч, – дряблые губы членкора неожиданно живо изобразили самодовольную улыбку. – По правде говоря, мы и сами считаем, что получилось нечто вроде открытия, но наше дело – честно и самоотверженно трудиться. Давать же оценку своим трудам мы предоставляем уважаемым коллегам.
Все выпили. Пожилой членкор сел и вонзил вилку в аппетитный кусочек ветчины. И в тот самый момент Заломов брякнул:
– Извините, Марат Иваныч, но разве не факт, что радиация вредна для здоровья?
– Молодой человек, вы говорите о больших дозах, а я – о малых, – огрызнулся Пивоваров, намазывая на ветчину горчицу.
– Я полагаю, малые дозы отличаются от больших лишь количественно, – продолжал упорствовать Заломов.
– Молодой человек, – раздражённо осадил членкор младшего научного сотрудника и с досадой швырнул вилку на белую скатерть, – очевидно, вы ещё не всё знаете. Впрочем, сие и неудивительно, учитывая ваш нежный возраст и крошечный опыт исследовательской работы. То, что вы излагаете, – обычная, обывательская точка зрения, плоская и примитивная, и, конечно же, именно она принята на Западе. Мы же показали, что по своему эффекту малые дозы гамма-лучей весьма чётко, качественно и парадоксальнейшим образом отличаются от доз больших. Получается, как в гомеопатии: в больших дозах яд, а в малых – лекарство.
Заломов знал, как популярна в народных массах гомеопатия. Иной раз ядовитое вещество разводят до концентрации одной молекулы на Тихий океан, а оно всё равно каким-то непостижимым образом лечит! Пока Заломов думал, Марат Иванович решил, что наконец-то ему позволят закусить, но ошибся.
– И какую же дозу радиации получали животные? – задал Заломов свой очередной вопрос и, видя некоторое замешательство пожилого человека, добавил: – Во сколько раз уровень радиации в ваших опытах превышал естественный фон?
– Э-э, – потянул Пивоваров, с досадой глядя на всё ещё недоступную ветчину, и тут светловолосая девушка, сидевшая напротив, прошептала: «Примерно в десять раз». – В десять-пятнадцать раз, – громко повторил членкор.
– И сколько вы нашли мутантов? – спросил Заломов.
– Каких мутантов? – Марат Иванович картинно вскинул правую руку. – Да практически все мыши стали ориентироваться в лабиринте на десять-пятнадцать процентов лучше! – на морщинистом лице маститого учёного заиграла сочувственная улыбка, будто говорившая: «Ах, молодость-молодость, как мила твоя восторженная глупость».
И тут снова весело загремел Кедрин:
– Иными словами, после обработки малыми дозами гамма-лучей все мышки, дружно, как одна, плечом к плечу, внезапно и вдруг приподняли свой интеллект. Ведь способность к ориентации в лабиринте следует отнести к интеллектуальным свойствам, не правда ли? Послушайте, коллега, а не напоминает ли этот ваш эффект то удивительное явление, о котором недавно докладывал наш гениальный соотечественник Гумилёв-младший?
– Но, Аркадий Павлович! Пассионарность вы, кажется, связали чуть ли не с каким-то Внешним Разумом! – выпалила со смехом Анна.
– Да-да-да, – вполне серьёзно согласился Кедрин, – быть может, именно Внешний Разум и управляет из глубин космоса нашей судьбой с помощью какого-то мягкого излучения? Быть может… – Аркадий Павлович сделал эффектную паузу, – тот неведомый Разум когда-то взял да и обработал неких двуногих обезьяноподобных созданий такими-то-вот лучиками, и тупые бессловесные первобытнички, потрясённые этим воздействием, взяли да и залопотали сразу и хором, на каком-то своём, тут же ими изобретённом первобытном наречии?
Все смолкли и впились глазами в одухотворённое лицо Кедрина. Звенящая тишина провисела над праздничным столом не менее десяти секунд и была нарушена беспардонным хохотом светского льва.
– Шутка, друзья мои! – отхохотавшись, загрохотал он, – это была шутка! Не более чем забавная трёхходовка!
Но никто не засмеялся. Все были поражены, с какой ловкостью Кедрин извлёк из данных Пивоварова новый, ещё более глобальный смысл. Перенести такое членкор не мог. С резвостью мальчишки соскочил он со стула и бросился отстаивать своё законное право первородства:
– А знаете, Аркадий Павлыч, скажу вам честно и откровенно, как только на мой стол легли первые результаты данного исследования, я тут же подумал о разумно-космической гипотезе, но вы же сами понимаете, такого рода соображения нельзя высказывать в научной статье. Это же из разряда вещей, читаемых между строк.
– Дорогой Марат Иваныч, – снова раздался густой бас-баритон Кедрина, – своею пионерской работой, исполненной на внешне неприглядных и дурно пахнущих грызунах, вы, кажется, приоткрыли, можно даже сказать, прорубили нам окошечко в космос, а быть может, – Аркадий Павлович придал своему голосу эффектное тремоло, – и подальше… и поглубже. Предлагаю по сему поводу выпить, вздрогнуть и закусить.
Все громко засмеялись. Напряжение, вызванное занудным искательством Заломова, было снято, и умиротворённый Марат Иванович наконец-то мог предаться единственной оставшейся у него утехе.
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ГИМН ДРАГАНОВА
В понедельник на подходе к Институту Заломов заметил Альбину, которая стояла у открытого окна кабинета своего босса и внимательно посматривала на входящих сотрудников. Вероятно, она ждала появления Заломова, ибо не успел он снять с полки первую мушиную колбу, как раздалась тревожная телефонная трель. Владислав поднял трубку и услышал: «С вами говорит Альбина Поплёвкина – секретарь по общим вопросам доктора Драганова. Товарищ Заломов, соединяю вас с Егором Петровичем». И сразу за этим заклокотал знакомый басовитый хрип:
– Владислав Евгеньевич, ну так вы приступаете к опыту на мышах?
– Егор Петрович, я всё-таки хотел бы с этим немного повременить. Мне нужно почитать о правилах работы с мышами, об их линиях… да и, вообще, я в жизни своей ещё ни одной мышки в руках не держал.
– Ну, Владислав Евгеньевич, ну что за детский сад!? Я вижу, вы упорно не желаете понять исключительную важность нашего исследования. А жаль. Я уж подумывал, мы с вами сработаемся. Очень жаль, – повисла пауза, слышалось лишь колючее дыхание шефа. Наконец Драганов кашлянул, прочищая горло, и неожиданно мягко добавил: – Заходите-ка сегодня вечерком ко мне домой, и я попробую кое-что вам заяснить. Лесная 23 в семь вечера. Надеюсь, для вас это не слишком поздно. До полседьмого у меня русская баня, не обессудьте.
Заломов попытался приступить к работе, но настроение его было испорчено. Он чувствовал, что опыт с мышами помешает ему спокойно и основательно разобраться в своей «любопытной находке», и поэтому ему хотелось тянуть и тянуть время. Впрочем, слишком заметное сопротивление могло разозлить шефа, а это грозило отстранением от работы. Заломов задумался, и тут его внутренний голос заявил с апломбом прорицателя: «Эффект КСК – твой, но учти, ты будешь делать всё, что захочет Драганов, если он, по праву руководителя, заберёт у тебя этот краситель». Заломов подошёл к полке с реактивами, взял бюксик с КСК, повертел его в руках и… сунул изящный сосудик в свою сумку.
Ровно в семь вечера Заломов стоял на крыльце у входа в коттедж Драганова. Он нажал на кнопку звонка и в ожидании хозяев взглянул на зелёную полосу, протянувшуюся вдоль фасада аккуратного двухэтажного домика. «Что же Драганов тут понасадил? – Боже, да это же картошка! И зачем ему картошка?» – но даже мудрый внутренний голос оставил последний вопрос Заломова без ответа. Вскоре послышался лязг дверных запоров, и на пороге появился сам хозяин в дорогом тренировочном костюме синего цвета. Куртка сидела на нём безупречно, а вот спортивные брюки в области коленок были неэстетично оттянуты.
Драганов провёл гостя в свой кабинет на втором этаже. Это была просторная светлица с двумя окнами, выходящими на великолепный сосновый бор. В центре кабинета громоздился сверхсолидный письменный стол, по виду, из морёного дуба. Почти все стены были заставлены стеллажами с книгами. Впрочем, половина одной стены, что напротив входа, была свободна от книг. Там висел, широко раскинув могучие крылья, российский двуглавый орёл. Герб ушедшей в небытие империи был выжжен на массивной деревянной панели, выпиленной из ствола какого-то «патриарха лесов». Приглядевшись, Заломов заметил, что в каждой лапе чудесной птицы извивалось по толстой змее. Пасти змей были широко разинуты, и из них торчали длинные раздвоенные жала.
Заломов хотел было заняться разглядыванием книг, но хозяин сам повёл его вдоль стеллажей, давая по ходу краткие пояснения.
– Здесь я разместил собрание древнерусских летописей. А это книги по истории допетровской России. Вот петровские времена, а тут я собрал кое-что, связанное с Екатериной Великой, Павлом и прочими царствующими Романовыми.
Наконец они подошли к узкому стеллажу, который был отведён под то, что Драганов назвал «русской духовностью». Здесь стояли многочисленные альбомы, посвящённые старинным русским церквам, их архитектуре, фрескам и иконам. Возле этого стеллажа и висела массивная доска с двуглавым орлом.
– Егор Петрович, а почему в лапах у российского орла вместо скипетра и державы какие-то непонятные змеи? – не удержался Заломов.
– Да очень просто, – распаренное баней красное лицо шефа слегка посветлело, а вертикальные складки возле рта сделались резче, – этот вожжённый в дуб национальный символ напоминает каждому русскому человеку, что для построения нашего воистину светлого будущего сперва следует раздавить эту пару ядовитых гадюк.
– И что же они символизируют?
– А то не догадались, а ещё русским человеком называетесь. Левая гадюка – Запад, а правая, – Драганов криво усмехнулся, – Восток, точнее, Ближний Восток. Не дождавшись понимающей улыбки на лице гостя, Егор Петрович посерьёзнел и подозрительно равнодушно пояснил: – Эту картину подарил мне один мой старинный приятель… Он профессиональный художник. Так он выразил лично своё представление о миссии нашего великого государства и нашего великого народа.
В это время в кабинет вошла невысокая, полноватая и бесцветная женщина лет пятидесяти. В руках у неё был поднос, на котором стояло то, о чём мог лишь мечтать младший научный сотрудник – бутылка марочного коньяка, корзинка с хлебом и пара стограммовых хрустальных стаканчиков. А пара пустых суповых тарелок давала понять, что одной выпивкой дело не ограничится. Женщина поставила поднос прямо на письменный стол и, подняв покорный взгляд на хозяина, негромко проронила: «Егор, я принесла, что ты просил».
– Познакомьтесь, – Драганов иронично скривил рот, – моя супруга Наталья Никаноровна; а это, Наташа, мой новый сотрудник Владислав Евгеньевич. Он, что называется, из молодых да ранний.
– Очень рада познакомиться, – невыразительно пролепетала жена шефа и протянула Заломову свою белую дрябловатую руку. Затем она переставила на полированную столешницу тарелки, коньяк и прочее и ушла, унеся поднос. Мужчины сели на жёсткие стулья по разные стороны необъятного стола и приступили к самому приятному занятию граждан страны развитого социализма.
– Эх, следовало бы сперва дерябнуть нашей чистенькой, да вот в последние годы угораздило пристраститься к этой кавказской мешанине, – приговаривал хозяин, разливая ароматный Васпуракан в хрустальные стаканчики и внимательно следя за равенством уровня напитка в обоих сосудах.
Проделав этот вовсе не тягостный ритуал, он поднял свой стаканчик, лихо выдохнул: «Понеслась!» и одним махом выпил, вернее сказать, опрокинул прямо в пищевод сто миллилитров армянского коньяка восемнадцатилетней выдержки. Заломову было далеко до столь высокого класса приёма на грудь. Он пил, как умел, короткими глотками, с интересом следя за дальнейшими действиями хозяина. А тот со стуком поставил на стол опорожнённый стаканчик, схватил кусок чёрного хлеба, поднёс его вплотную к ноздрям своего короткого носа и сделал шумный вдох через хлебные поры. Восстановив дыхание, вынул из выдвижного ящика стола плоскую коробку дефицитного «Казбека», извлёк из неё папиросу и закурил, обратив своё скуластое умиротворённое лицо к темнеющему окну. Шеф курил и молчал, получая удовольствие от начинающегося опьянения. Наконец, продолжая глядеть в окно, заговорил:
– Быть дождю. Мошки многовато, сороки приутихли, суставы потягивает да и кости поламывает. Вы любите дождливую погоду?
– Нет, Егор Петрович, не люблю.
– А мороз?
– И мороз не люблю.
– А я люблю всякую погоду – хоть слякоть, хоть мороз. Помните у Пушкина: «Здоровью моему полезен русский холод»?
Заломов молчал. Так и не получив ответа, Драганов перевёл свой взгляд на гостя и приступил к воспитательной беседе.
– Послушайте, Владислав Евгеньевич, я хотел бы вас чуток просветить. Вы, я вижу, паренёк смышлёный и в целом неплохой, но многого, очень многого не понимаете. Попробуйте-ка взглянуть на Советский Союз глазами западян.
Вот видят они на карте мира гигантскую страну, охватившую половину земного оборота! Страну, в недрах которой хранится половина всего железа мира. В почве которой заключено больше половины всех чернозёмов мира. Я уж молчу о лесе, газе, нефти, угле, никеле, уране, золоте, платине, алмазах, и прочем, и прочем. Да один Байкал хранит в себе четверть всей пресной воды планеты, да и какой воды! И кто же владеет всем этим неисчислимым богатством? – Тихий, не очень-то многочисленный и весьма благодушный русский народ. А вот теперь я спрошу вас: как же так случилось-получилось, что именно русский этнос стал хозяином столь великого достояния? И по праву ли он владеет эдаким богатством? А впрочем, давайте-ка сперва дерябнем по второй.
Они выпили ещё по сто миллилитров великолепного коньяка. Голова Заломова закружилась, ему сделалось тепло и приятно. А этот немолодой солидный человек, да ещё и крупный советский генетик, продолжал развивать свои странные мысли, от которых отдавало уж слишком ярко выраженным патриотизмом.
– Вот посмотрите, Владислав, уже гениальный автор «Слова о полку Игореве» абсолютно чётко понимал, что мощь русского народа – в его единстве, и эта идея единения была пронесена нашими предками через века и реализована в гениальнейшей политике Москвы. А теперь ответьте-ка мне: а был ли когда-нибудь на свете другой этнос, который бы так глубоко чувствовал свою великую вселенскую миссию? – Драганов изучающе впился в лицо Заломова. Тот молчал. Учёный недовольно покрутил губами и вернулся к прославлению родного народа: – А непостижимая страсть русских людей к наукам? Какой ещё этнос мог бы похвастаться таким героическим парнем, как наш Мишка Ломоносов? Ведь подумать только, так учиться хотел, что пёхом притопал в Москву из Холмогор, с северного края Империи! А? Каков кадр?! А сколько породила Русь талантливейших и глубочайших писателей, изобретателей, политиков, путешественников, учёных и мыслителей! Ничего подобного в мировой истории никогда не бывало, это же абсолютно! – последние слова Егора Петровича прозвучали не особенно отчётливо. Видимо, начала барахлить система контроля над работой речевых органов. Внезапно возникшее препятствие могло нарушить планы Драганова, но он никогда не пасовал перед трудностями. Напротив, любое препятствие, любой соперник были благом для его души. И чем опаснее выглядел соперник, тем больший прилив сил испытывал Егор Петрович, и тем слаще представлялась ему грядущая победа. Призвав заплетающийся язык к повиновению, учёный перешёл к финальной части своего патриотического гимна: – А наши полководцы? Александр Невский – победитель шведов и немецких псов-рыцарей. Дмитрий Донской – победитель неисчислимой орды татар. Суворов – военный гений, не проигравший ни одного сражения, бивший турок без счёта, да и наполеоновским генералам от него досталось. Кутузов – победитель самого Наполеона и наконец Георгий Жуков – он не просто лучший полководец Второй мировой, нет! он вообще величайший полководец всех времён! – сибиряк проникновенно понизил голос: – Он и есть Георгий Победоносец, – обычно яркие, будто горящие, глаза Драганова вдруг потускнели, лицо его приняло пустое, отсутствующее выражение, и едва двигая губами, он повторил, будто убеждая себя: – Он и есть Святой Георгий – спаситель и покровитель Отечества нашего!



