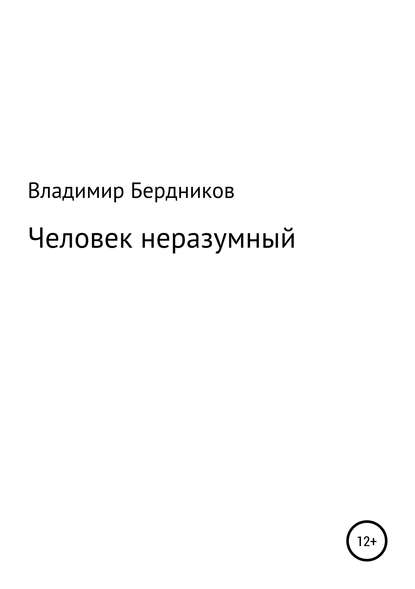 Полная версия
Полная версияЧеловек неразумный
– Да, карта впечатляет, она напоминает мне аналогичную карту разрастания Древнего Рима, – довольно спокойно ответил Заломов.
– Честно говоря, молодой человек, вы меня удивляете. Ну причём тут, скажите на милость, давно позабытый Древний Рим? Сдаётся мне, вы не вполне осознаёте значение слова «Россия».
Естественно, произнесено это слово было очень торжественно и, конечно же, с лишними "р" и "с".
– Простите, Егор Петрович, наверное, я и на самом деле чего-то не понимаю.
– Ну, это дело поправимое, наживное. А кстати, где вы родились-то?
– В посёлке Оредеж Ленинградской области.
– А родители откель?
– Да из тех же мест.
– А они случаем не чухонцы какие?
– Да, вроде, нет. Оба русские. Предки отца, кажется, из Новгорода.
– Из Новгорода Великого? Это хорошо. А предки матери откель?
– Она говорит, из Великих Лук.
– Ну дак вы можете гордиться своей родословной! Тогда, пожалуй, есть смысл и поучить вас кой-чему.
Драганов привычно подошёл к окну и изобразил задумчивость, а в голове Заломова успела пролететь мысль: «Опять этот загадочный интерес к родословным! Практически любой из нас весьма положительно отзывается о своих предках, о своих так называемых корнях. И наше странное, нелепое, лишённое всякого здравого смысла почитание этих пресловутых корней тем сильнее, чем глубже погружены они в пыль веков. И неважно, кем были в том туманном прошлом наши предки – ангелами или демонами – главное, чтобы они оставили по себе хоть какой-то след, хоть какую-то память. Кстати, если кто-то верит, что где-то в нём, в глубинах его генома, дремлют выдающиеся способности далёкого предка, то он сильно ошибается. Увы! От хромосомного набора легендарного праотца через несколько поколений передачи по мужской линии остаётся лишь одна генетически пустая игрек-хромосома. А при передаче по женской линии вообще ничего не остаётся». Здесь спокойный ход мыслей Заломова был прерван шефскими словами, которые явно не предназначались собеседнику: «Ну, теперь-то они у меня уж точно попляшут». Высказав эту таинственную фразу, Драганов снова замолчал. Шли долгие секунды, а он всё стоял у окна и всё смотрел на прекрасную берёзу. Видимо, в голове учёного всё не завершался глубоко интимный процесс сотворения новой «мыслишки». Наконец Егор Петрович заговорил, вкладывая в каждое слово всю мощь своей натуры:
– А теперь, Владислав Евгеньевич, выслушайте меня предельно внимательно. В отличие от меня, вы не располагаете всей полнотой информации о действительном положении вещей в нашей стране, да и в мире в целом. Но ежели в ваших жилах и на самом деле течёт настоящая, неразведённая русская кровь, ежели вам действительно дорога наша Отчизна, то вы просто обязаны делать то, что я вам скажу, – Драганов повернулся к Заломову. – Немедленно приступайте к эксперименту на мышах. Считайте это приказом! – возбуждённые глаза Драганова впились в лицо Заломова, как пиявки, жаждущие крови.
Подчинённый молчал.
– Вы слышали? – сурово спросил шеф.
– Да, слышал, – ответил Заломов бесцветным голосом.
– В таком случае вы свободны. А кстати, – делано равнодушно добавил Драганов, – зайдите-ка в бухгалтерию и получите премию за успешно исполненную работу. Мы ценим толковых сотрудников.
– Спасибо, Егор Петрович.
– Ступайте.
Выйдя из шефского кабинета, Заломов направился в библиотеку, где должна была находиться Анна. Бросив взгляд на застеклённую стену холла второго этажа, он остановился. Там, в широком мире за прозрачной стеной всё радикально переменилось. Полнеба закрыла огромная чёрная туча, и до ушей стал доходить неясный, непрерывный и какой-то зловещий гул. Гул стремительно нарастал. Затрепетали листья деревьев, заходили ходуном ветви, взвились и понеслись над землёй пылевые вихри. «Тревога! Тревога!» – завопил какой-то подкорковый мозговой центр. И тут же проснувшийся внутренний голос поспешил успокоить: «Ничего особенного. Приближается банальный грозовой фронт». Потемневший воздух озарился ослепительной бело-фиолетовой вспышкой, за которой немедленно последовал адский треск тысяч одновременно разрываемых полотнищ. Через несколько секунд на Институт обрушился водопадоподобный ливень. Стало очень темно. При вспышках молний Заломов увидел, что по асфальту Центрального проспекта катится широкий водяной вал.
В читальном зале, кроме Анны, никого не было. Заломов подсел к ней, и они оба, охваченные странным, полумистическим чувством, смотрели, как рядом с ними высвобождаются невероятные количества энергии. С крыши института напротив сорвало лист шифера, деревья в сквере согнулись в крутые дуги, затрещали стволы, посыпались сучья. Внезапно к шипящему шуму дождя прибавился резкий звон – это по крышам, стёклам и бетону забила ледяная шрапнель града. Никогда не видывал Заломов градин такого размера. Иссушенный жарой газон в считанные минуты был засыпан крупными белыми шариками из спёкшихся льдинок. Из-за непрерывного шума, воя, стука, звона и грохота было невозможно разговаривать, да и желания не было. В такие моменты наш присмиревший разум осознаёт, что в жизни, кроме гонки наверх к успеху и власти, есть ещё и внешний мир – мир могучий, грозный и непредсказуемый. Минут через пятнадцать стало светлеть, и вскоре вновь засияло яркое летнее солнце. Градины растаяли, и о прошедшей грозе напоминала лишь бурная река, продолжавшая мчаться по асфальту Центрального проспекта.
– Где ты был? – очнувшись, спросила Анна. – Недавно заходила в твою комнату, а тебя не было.
– Шеф вызывал, – лицо Заломова накрыла тень горечи.
– Что? получил нагоняй?
– Хуже. Драганов заставляет меня делать то, что я считаю нецелесообразным. Он ограничивает мою свободу в творчестве.
– Влад, наука не искусство.
– Здесь я не могу с тобой согласиться. Мне кажется, настоящая наука даже больше, чем искусство. К примеру, подумай, какова должна быть сила воображения, чтобы предложить дельную гипотезу, дающую надежду понять нечто, дотоле совершенно непонятное.
– Хорошо, дорогой. А ты знаешь, мне уже не раз приходила в голову ужасно безответственная мысль: а может быть, нам, действительно, стоит расписаться?
Неожиданный поворот в разговоре благотворно повлиял на настроение Заломова. Он снова улыбался, и его глаза, обращённые к Анне, снова светились любовью.
– А я считал, мы уже женаты.
– Ну, нет, дорогой, а ритуал?
– Уж не венчание ли ты имеешь в виду? – усмехнулся Заломов.
– Ну, где там венчанье? Хотя бы свадебное путешествие.
– Есть идея куда?
– Я бы поехала на Чёрное море. Мы с отцом как-то отдыхали в Гаграх, мне было тогда восемь. Ты бывал на Кавказе?
– Нет.
– А хотел бы?
– Ясное дело, хотел бы, – ответил Заломов.
– Тогда замётано.
ОТКУДА БЕРЁТСЯ СМЫСЛ?
В субботу, первого августа, Заломов и Анна решили отметить свои новые отношения обедом в ресторане. В дневное время в этом единственном злачном месте Городка царили тишина и покой. Посетителей было мало. За служебным столиком возле бара праздно сидели две официанточки. Девушки курили и весело болтали, не обращая внимания на своих клиентов. Заломов, устав от затянувшегося ожидания, постучал монеткой по стеклянной салфетнице. Звуковой сигнал сработал, и одна из официанток – эффектная перекисная блондинка, явно копирующая Мэрилин Монро, – взглянула на наших влюблённых и, нехотя, подошла к ним.
– Что будем пить? Коньяк, шампанское, вино, водку?
– Коньяк, двести грамм, желательно марочный, – заказал Заломов.
В пустых светло-карих глазах официантки сверкнуло нечто вроде интереса.
– Марочного нет, есть армянский пять звёздочек.
– Пойдёт.
– Чем будем закусывать? Икорка, балычок, севрюжечка?
– Балычок, – потребовал Заломов, – а из еды, пожалуйста, окрошечку по-новоярски и ваши фирменные котлетки «Восторг».
Вскоре перед влюблёнными стоял графинчик с коньяком и осетрина. «Как ты думаешь, Влад, какой свежести эта осетрина?» – засмеялась Анна. «Не бойся, алкоголь – отличный антисептик!» – ответил Заломов, наполняя рюмки коньяком.
Внезапно Анна перестала смеяться и застыла с выражением радостного испуга – в ресторан бодро, но с достоинством входил доктор Кедрин. Заметив знакомых молодых людей, он весь засветился, заулыбался и прямиком направился к их столику.
– Мои юные друзья, у вас свободно? – спросил он, обнажив верхний ряд своих мелких ровных зубов.
– О, Аркадий Павлович, мы вам ужасно рады. Конечно же, садитесь, – крайне любезно проворковала Анна.
Кедрин сел, и к нему тут же подлетела Мэрилин-подобная официантка.
Аркадий Павлович, – заговорила она заискивающим тоном, – вам, конечно, вашу старосибирскую, не так ли?
– Так-так, Светочка, а в качестве закуски, пожалуйста, мой любимый сэндвич. Ты же знаешь, что я имею в виду. Ну а из еды… – Кедрин задумался, – сегодня я бы выбрал вашу окрошечку по-новоярски.
– Не извольте беспокоиться, Аркадий Павлович, всё будет в лучшем виде.
Светочка ушла, а Кедрин выложил на скатерть свой серебряный портсигар, извлёк из него сигарету с золотым ободком и закурил, откинувшись на спинку стула. По всему было видно, что он чувствует здесь себя как дома, а быть может, даже уютнее, чем дома. Минут через пять перед ним уже стоял графинчик с водкой и тарелочка с его любимыми сэндвичами, то есть с ломтиками ветчины, покрытыми толстым слоем чёрной икры. Кедрин лёгким привычным движением налил себе рюмку водки и, подняв её, жестом пригласил молодых людей чокнуться.
– За нашу бесценную жизнь! – провозгласил он, широко улыбаясь.
– За неё несравненную! – попытался попасть в тон Заломов.
Анна, опасаясь неудобных расспросов, решила направить разговор на какую-нибудь отвлечённую тему. Первое, что пришло ей в голову, было:
– Как вы думаете, Аркадий Павлович, есть ли у мысли материальная основа?
Анна достигла своей цели – Кедрин был явно сбит с толку. Он даже чуть побледнел, и его недоуменный, слегка испуганный взгляд пару секунд метался по смущённому лицу девушки. Впрочем, этих мгновений бывалому спорщику вполне хватило для анализа неожиданно возникшей нестандартной ситуации, и вскоре он снова был на коне, и снисходительная улыбка снова кривила его тонкие губы.
– Эко, куда вас занесло! Ну и вопросики, скажу я вам, у современных красавиц! – Кедрин рассмеялся. – Позвольте, Анна Дмитревна, ответить встречным вопросом: «А какова материальная основа у информации?»
– Информация, конечно же, не вещество… – неуверенно начала Анна.
– Да, информация не состоит из атомов, у неё нет ни массы, ни энергии, – поддержал девушку Заломов. – Это то… что делает объект особенным, уникальным, понятным… это что-то вроде меры нашего знания о нём…
– Туманно, молодой человек, – нетерпеливо оборвал Заломова старший товарищ, – неубедительно и, по сути своей, тавтологично, а главное, совсем не то. Ну, совершенно не то! Вижу я, вы пытаетесь подойти к количественной стороне информации, хотя куда интереснее её качественная сторона. Вот возьмите две книги с одинаковым числом страниц, но в одной написано Моисеево «Пятикнижие», а в другой – ну, скажем, первый том Марксова «Капитала». В каждой из этих великих книжек примерно одно и то же количество информации, а мыслишки-то, мыслишки-то, – повторил Кедрин с драматической дрожью в голосе, – ну, совершенно разные. Правда, у книг есть авторы, и, видимо, с уникальными мыслями авторов мы знакомимся при чтении великих книг. Вот сказал я это и призадумался: а кто же был истинным автором Пятикнижия? А вдруг Моисей, и впрямь, писал свою нетленку под диктовку самого Демиурга?
– Да едва ли, – не удержался блеснуть эрудицией Заломов. – И как, вообще, мог Моисей что-то писать, если евреи в те времена были безграмотными пастухами.
– Но Моисей, воспитанный при дворе фараона, вне всяких сомнений, умел писать по-египетски, – усмехнулся Кедрин.
– Выходит, великие заповеди были записаны египетскими иероглифами? – простодушно удивился Заломов.
– А почему бы и нет? Такое вполне могло иметь место. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это и принять. Но что это меняет? – Кедрин закурил. – Молодые люди, позвольте же мне, наконец, перейти к самой интересной и самой важной форме информации – к информации наследственной, генетической.
– Ради бога, Аркадий Павлович, – снова крайне любезно пролепетала Анна. – Мы с огромным вниманием следим за вашей логикой.
Музыкальные пальцы Кедрина нервно забарабанили по блестящей крышке портсигара. Видимо, сверхлюбезный тон Анны сбил его с мысли. Но жизненный опыт помог.
– Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! – пробалагурил он и весело рассмеялся. – Однако ж вернёмся к нашим овцам и баранам, – лицо Кедрина снова стало сосредоточенным. – Давайте рассмотрим два отрезка ДНК одинаковой длины. В первом записана структура важного гена, а во втором – полнейшая абракадабра. Ну, скажите мне, – Кедрин посмотрел на Анну, – откуда в первом отрезке взялись информация и смысл? и кем был автор?
– Ну и откуда, по-вашему, этот смысл взялся? – ответила Анна, явно не успевая справиться со сложной темой.
Тут Аркадий Павлович сильно разволновался и даже, будто в сердцах, бросил в пепельницу недокуренную сигарету. Но, к сожалению, мыслительный процесс у него был слишком тесно сопряжён с курительным ритуалом. Через полминуты в его красивых, не тронутых кислотами и щелочами пальцах уже дымилась новая сигарета, и мозг его снова был готов исполнять свою привычную творческую работу. Глядя куда-то ввысь, Кедрин провещал:
– Великий Платон первым обнаружил источник, снабжающий наш мир информацией и смыслом. Величайший из греков сумел убедить себя и своих последователей в том, что где-то в ином мире, возможно, даже в каком-то ином измерении обитают бестелесные первообразы вещей. Он назвал их идеями (в оригинале, эйдосами). Так вот, мои юные друзья, наши гены – это отрезки ДНК, получившие свою исходную информацию от неких эйдосов, существовавших вне нас и вообще вне мира, доступного нашим ощущениям.
– Постойте, Аркадий Павлович, – вспыхнула Анна, – но разве не факт, что свою наследственную информацию мы получаем вместе со вполне материальными хромосомами от наших родителей, сотканных из плоти и крови? А вы, похоже, допускаете страшную и ужасную вещь: будто генетическая информация может попасть к нам чуть ли не от бестелесных обитателей загробного мира?
Кедрин одарил девушку понимающей лукавой улыбкой и пояснил:
– Анна Дмитревна, я говорил об исходной генетической информации…
Старший товарищ замолчал, обводя глазами негодующие лица своих собеседников. Заметив, что Анна уже приоткрыла рот, готовясь к новому резкому выпаду, он постарался её опередить:
– Да не спешите вы с критикой, мои юные друзья! Не спешите пронзить мою нежную, тонко чувствующую нервную плоть своими жестокими кинжалами, копьями и мечами. А лучше попытайтесь-ка призадуматься и объяснить, каким же это образом при обычном, знакомом вам способе передачи наследственной информации мог бы возникнуть самый первый живой организм? От кого? от какого плотского предка получил бы он свои гены? – и Кедрин рассмеялся, радуясь, как удачно всё у него выходит. – Ведь не секрет, – продолжил он, – что даже у самых примитивных из ныне здравствующих жизненных форм гены устроены ничуть не проще, чем у самых продвинутых, самых, так сказать, прогрессивных. Естественно предположить, что и гены самых первых земных организмов были такими же сверхсложными, такими же преисполненными наследственной информации. Отсюда с неизбежностью вытекает препикантнейший вывод: в гены первых живых конструкций информация была занесена откуда-то извне, из какого-то внешнего неведомого источника, – Кедрин выдержал эффектную паузу и добавил: – Из источника потустороннего и потому не постигаемого средствами естественных наук.
– Мне кажется, вы намеренно драматизируете ситуацию, – попробовал оказать хоть какое-то сопротивление Заломов. – Конечно, пока нам неизвестно, как возникали первые генетические тексты, но из этого никак не следует, что они были занесены на нашу планету из какого-то потустороннего, нематериального мира. К чему такая сверхфантастичная гипотеза? Почему вас не устраивает более спокойное (и многими разделяемое) предположение, что первые гены появились в результате длительного предбиологического процесса – в результате так называемой химической эволюции? Правда, пока, к сожалению, мы практически ничего не знаем о том загадочном процессе: ни о месте его протекания, ни о времени, ни об условиях, и главное, мы ничего не знаем о его механизме.
– И никогда не узнаете! – резанул Кедрин и, будто спохватившись, вернулся к своей обычной миролюбивой манере: – Ладно, молодые люди, здесь мы коснулись уж слишком сложной темы, но попробуйте ответить на вопросик попроще: как мог (и мог ли?) никем не управляемый, слепой и бесцельный дарвиновский эволюционный процесс породить мыслящий разум?
Кедрин поднял рюмку с водкой и провозгласил: «Выпьем же за разум, мои милые юные друзья! Как это у Александра Сергеича? – Да здравствуют музы, да здравствует разум!».
Аркадий Павлович широко улыбался, но его собеседники были серьёзны.
Наконец Заломов вышел из временного ступора:
– Честно сказать, я не вижу принципиально неодолимых препятствий для превращения человекообразной обезьяны в человека. Ведь известно же, что гены шимпанзе практически не отличаются от наших. Почему бы не предположить, что в какой-то линии бесхвостых обезьян из рода Homo шло постепенное накопление мутаций, слегка повышаюших интеллект. Этот длительный, растянувшийся на миллионы лет процесс количественного улучшения умственных способностей в какой-то момент привёл к появлению нового качества – к появлению разума.
– Ой, Буй-Тур же вы мой, Владиславе! Всё, что вы нам тут сейчас порасписали, а точнее, порассказали, – элементарнейший неодарвинизм, да ещё и сдобренный марксистско-гегелевской диалектикой. Вижу я, клювик-то ваш ещё не отмылся от липкого диаматовского желточка. Ничего нового и интересного в вашем эволюционном сценарии я лично, к великому моему сожалению, не обнаружил, не нашёл, не опознал и не выявил. А вот если бы вы конкретно, без набивших оскомину диалектических трюков, объяснили бы мне, как с помощью ваших небольших, крошечных улучшений некая обезьянка, какая-нибудь игривая мармозетка или (если вам будет приятнее) какая-нибудь мрачная страшилла-горилла вдруг призадумалась бы да и изрекла что-нибудь вроде:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Вот это было бы интересно, – на лице Кедрина снова заиграла его обычная добродушно-снисходительная улыбка.
Заломов недовольно заёрзал на стуле. Увы, ничего путного в его голову не приходило. После кратких колебаний он всё-таки заговорил, правда, речевой поток его лился уже не так напористо, как прежде:
– Честно сказать, Аркадий Павлович, на ваш последний вопрос ответить действительно трудно…
– Вот то-то и оно-то, что ответить-то вам трудно. Сказать «невозможно», должно быть, духу не хватило, – съехидничал Кедрин.
Заломов молчал, настроение его заметно упало. Зато Аркадий Павлович торжествовал. Повергнув в смятение своего цепкого оппонента, он решил добиться его полной капитуляции.
– А теперь, молодые люди, позвольте привлечь ваше внимание к теории одного замечательного историка – нашего соотечественника Льва Гумилёва, сына знаменитых поэтов Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. Лев Николаич, кстати, недавно приезжал в Институт и излагал в нашем конференц-зале свою гениальную теорию. Так вот, он заметил, что у разных народов в разные исторические эпохи внезапно и вдруг появлялись тысячи чрезвычайно энергичных и талантливых людей, одержимых новыми смелыми идеями и готовых на всё ради их осуществления. Гумилёв-младший назвал этих людей пассионариями. Когда доля пассионариев в людской массе достигала некоего критического уровня, народ (в его терминологии, этнос) приступал к активным действиям, обычно к военным реформам и внешним завоеваниям. Вспомним о гуннах пятого века, арабах – седьмого, монголах двенадцатого-тринадцатого веков, португальцах и испанцах эпохи Великих географических открытий. Да и наша история свидетельствует о верности гумилёвской концепции. Только огромной концентрацией пассионариев можно объяснить безудержную и крайне успешную экспансию русского этноса на восток. Вспомните, с какой скоростью наши предки освоили Северную Азию! Всю! От Урала до Тихого океана! Ещё бы чуть-чуть и вся Северная Америка – да будь она неладна! – стала бы нашенской!
– Всё это звучит очень интересно, – возобновил словесное состязание Заломов, – но пассионарии не мутанты. Никакие мутации, тем более мутации, повышающие предприимчивость, не могут появляться с такой фантастически высокой частотой. И вообще, в больших популяциях частоты генов практически не изменяются, это же закон Харди-Вайнберга.
– А вы, Владислав, и не пытайтесь объяснить массовое появление пассионариев с привычных для вас позиций современной генетики, – Кедрин добродушно смотрел на Заломова и улыбался. – Сделать это вам не удастся. Но обратите внимание, как легко всё объясняется, если предположить, что этнос иногда получает новую генетическую информацию из какого-то, скажем помягче, внешнего источника, – лицо биолога-теоретика стало серьёзным, и, глядя куда-то вдаль, он добавил: – Только с помощью информации из того внешнего, лишь умопостигаемого источника и можно объяснить появление таких совершенно невероятных вещей, как разум и язык. Я уж молчу о главном галактическом чуде – о появлении жизни на нашей старушке-Земле. Без Мирового Разума, вобравшего в себя всю информацию Вселенной, тут уж никак не обойтись.
Очередное вторжение в разговор ненаучного понятия заметно раздражило Заломова. В прямо-таки юношеской запальчивости он воскликнул:
– Да неужто, Аркадий Павлович, вы и взаправду допускаете существование разума в отрыве от мозга?!
Кедрин весело взглянул на Заломова и очень мило, совсем по-детски засмеялся. Внезапно посерьёзнев, ответил:
– Дорогой Владислав, ваш вопрос поставлен не вполне аккуратно. Вероятно, вы хотели сказать, что нельзя представить себе разума в отрыве от души? – у Заломова вытянулось лицо. – Да ладно, молодые люди, не берите всё это в голову. Боюсь, я слишком высоко расставил свои ловчие сети. Вы правильные советские ребята. Радуйтесь своей молодости и не забивайте ваши светлые, незамутнённые головки проблемами старцев! Вы можете обойтись без Мирового Разума? Он вам не нужен? – Ну, и живите без него!
– Простите, Аркадий Павлович, а как же на самом деле? – возмутилась Анна.
На лице Кедрина заиграла нетипичная для него мягкая, почти застенчивая улыбка.
– А на самом деле, Анна Дмитревна… Мировой Разум… есть.
– Но откуда у вас такая уверенность? – изумилась Анна.
– Анна Дмитревна, – Кедрин взглянул девушке прямо в глаза, – да разве вы не видите, что во всём, нас окружающем, сквозит закономерность и смысл? Неужели вы не замечаете разлитую вокруг нас красоту и гармонию? Кстати, моя точка зрения на данный предмет не слишком далека от эйнштейновской. В апреле 1929-го нью-йоркский раввин Герберт Гольдстейн прислал Эйнштейну телеграмму с незатейливым текстом: «Вы верите в Бога?» – Эйнштейн отбил ответную депешу: «Я верю в Бога Спинозы, который являет себя в гармонии сущего, но не в Бога, озабоченного судьбами и поступками людей».
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММИСТ
Кедрин потянулся к своему роскошному портсигару, вынул из него очередную сигарету и закурил, глядя через отворённое окно на берёзовую рощу, к счастью, сохранённую строителями. А роща та была диво, как хороша. Такая воздушная, такая белоствольная! Учёный откинулся на мягкую спинку стула и, придав своему лицу значительное выражение, изрёк:
– Да и вообще, мои юные наивные друзья, вся наша жизнь, весь её смысл – это стремление познать тайную логику того единственного мира, данного нам в ощущениях и смутных предчувствиях.
– Аркадий Павлович, мне кажется, вы чего-то не договариваете. На какую-такую тайную логику и на какие-такие смутные предчувствия вы намекаете? – на лице Анны читалась лёгкая растерянность.
– Мои юные коллеги, – заговорил Кедрин негромко и без малейшей рисовки, – да неужели вы никогда не задавались вопросом, как нам вообще удаётся возводить логически безупречное здание науки, проникать мысленным взором в глубины космоса, генов и атомов? Как нам удаётся находить какие-то законы в этом хаотичном нагромождении зрительных, слуховых и тактильных ощущений? – видно было, Кедрин искренне взволнован. Вероятно, эти вопросы он часто задавал самому себе, и ему не хотелось выставлять на суд незрелых юнцов свой выстраданный ответ. Но деваться было некуда, после краткой паузы он наконец раскрыл своё философское кредо: – Наш поразительный успех в познании законов природы означает лишь одно: мы со своим разумом и весь окружающий нас мир – всё это воплощение одной и той же творческой программы. И программистом тут мог быть только Он – Мировой Разум или то таинственное начало, которое Георг Гегель, столь уважаемый Карлом Марксом, назвал Абсолютной идеей.



