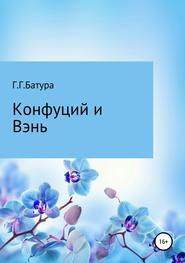 Полная версия
Полная версияКонфуций и Вэнь
А теперь разберемся внимательнее с этим словом – метаноэ́о/мета́нойя. Вот как понимают его богословы. Процитируем статью из книги «Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета» (Словарь-справочник; «Летний институт лингвистики», Издательство «Герменевт», Христианское общество «Библия для всех»; СП-б., 1996, стр. 253, 254):
Глагол «каяться» (греч. метаноэ́о) и существительное «покаяние» (мета́нойя) подразумевает акт добровольного отречения от греха, выражение сожаления по поводу грехов, совершенных в прошлом, и принятие на себя обязательств не грешить… Господь сам дарует людям возможность принести покаяние, зарождает у них желание покаяться и призывает осуществить его.
Иногда словом «покаяться» переводится греческое слово метамеломай, хотя в более современных переводах оно чаще переводится как «передумать» или «сожалеть». Это слово выражает сожаление по поводу содеянного, но не подразумевает непременного (курсив наш – Г. Б.) обращения к Богу.
Предварительно поправим авторов Словаря и заметим, что и в «современных переводах» (таковых, к слову сказать, уже почти не существует, т. к. во всех цивилизованных странах Новый Завет уже давно имеет утвержденные Церковью канонические переводы) слово метеме́ломай, как правило, тоже переводится словом «покаяться». Итак, согласно этому Словарю мета́нойя – это подлинное раскаяние в грехе, которое происходит как бы «в присутствии Бога», а метаме́ломай – это обычное сожаление о совершенном проступке, которое не влечет за собой принципиального изменения поведения. Метаме́ломай – это что-то наподобие того, что просто «передумал», «сожалею», и решил, что сделал неправильно.
Можно задать вопрос: а если мысли о Боге («обращение к Богу») все-таки у человека были и при метаме́ломай (см. процитированное выше слово «непременное»), в таком случае, в чем принципиальная разница между этими словами? Или взять, например, случай предательства Иуды: Иуда, ведь, не просто «передумал» или стал «сожалеть» о содеянном, – он действительно искренне раскаялся (в тексте – метаме́ломай). И очевидным подтверждением этого явилось его самоубийство. «Сожаление» – это непременное и обязательное чувство, которое всегда сопровождает искреннее «раскаяние». Разделять эти чувства – раскаяние и сожаление – не разумно. Более того, само это внутреннее чувство – «сожаление/покаяние» – никогда не бывает непосредственной причиной обращения к Богу, никогда не выставляется напоказ перед Богом: вот смотри, сейчас я метаноэ́о, а «без Тебя» (т. е. когда о Тебе не думаю) – метаме́ломай. Высшим судьей человека является его сердце, а не Бог. И конкретно – совесть. Объективно говоря, Иуду совесть замучила, а не то, что он «передумал» или стал «сожалеть», как следует из значения метаме́ломай по этому Словарю. Он действительно раскаялся в содеянном. Потому что даже предположить не мог, что выданного им Иисуса казнят: он стал невольным виновником Его гибели. Это и есть подлинное раскаяние, подтвержденное смертью Иуды, как «печатью» Высшей инстанции.
Но даже эти приведенные нами аргументы не являются главными. Сама этимология двух рассматриваемых нами древнегреческих слов свидетельствует об обратном тому, что заявлено в Словаре. Именно в мета-ноэо присутствует корень ноэо – «думать, обдумывать, мыслить», а не в мета-ме́ломай, где ме́ло – это «быть предметом забот, интересовать, занимать». У философа Платона метаноэо – это древнее греческое «изменять мнение, передумывать» (т. е. то значение, которое ошибочно присваивается по Словарю метаме́ломай), а у писателей Плутарха и Лукиана, которые жили «после Христа», – это уже неожиданно появившееся, новое, «раскаиваться, сожалеть», что однозначно свидетельствует о влиянии евангельского текста.
Но что же, в таком случае, означает истинное евангельское метаноэ́о, если метаме́ломай – это и есть настоящее раскаяние? Как обстоит дело с этим непонятным словом у самого Христа? У того мандея Иисуса, который прекрасно представлял себе духовную «таблицу Менделеева»? У Него – иначе, чем у всех богословов. Греческая приставка ме́та– кроме ряда своих значений имеет также следующее: «в сложных словах она означает… переход из одного места или состояния в другое, перемену» («Греческо-русский словарь», А. Д. Вейсман, стр. 799). То есть метаноэ́о в буквальном понимании означает «переход ума» (ноэ́ма, однокоренное с ноэ́о «думать») – или мыслительного процесса – «из одного места в другое». Евангельский Иисус использует это сложное слово в его буквальном смысле.
Откуда же, и куда должен перейти «ум»? И не фантазии ли все это? Для подлинно духовного человека в этом нет никакой загадки. Именно это является той главной целью, которая ставится перед человеком во время творения «Иисусовой молитвы» и в случае практики Жэнь. Необходимо «опустить ум из головы в сердце». Так, чтобы человек начинал думать не своей головой, а своим сердцем, или, иначе, – своим умом, переместившимся в область сердца. Таким образом, речь идет о «переходе ума» в сердце. Конечной целью такой практики и является опыт Вэнь.
А следовательно, когда Иисус вышел на проповедь о Царстве, Он прекрасно понимал, что оно, это Царство, – только для тех, у кого уже «расширилось сердце». Поэтому Он как бы предварительно призывает иудеев: «Старайтесь думать своим сердцем (метаноэ́о), ибо приблизилось Царство Небесное!». «Окаменевшее» сердце – это такое сердце, в котором еще не поселился ум. Такое сердце спит. Если для иудеев подобное знание было внове, т. к. Моисей их этому не учил, то для любого подлинного назарея – это пройденный этап. Следует особо подчеркнуть: религия иудеев, как и религия зороастрийцев, у которых иудеи многому научились и что-то позаимствовали (например, закон Левирата, правда, без обязательных в таком случае «кровно-родственных браков»; у зороастрийцев такой брак вдовы с братом умершего назывался чакар), была основана исключительно на «слепой вере». Представители обеих этих религий не знали, что́ такое живое «сердце», – у них не было такого «учебника». Хотя в Гатах Заратуштры «сердце» уже фигурирует. Но если у самого Пророка оно действительно «проснулось», то у его последователей – была вера.
В противоположность им, религия назареев имела своей духовной базой «опыт сердца», как и эллинская религия (Элевсинские мистерии), и как «религия» Конфуция с его опытом Вэнь. Эти три религии (но это, строго говоря, уже не религии, потому что эти Учения базируются не на вере) можно отнести к мистериальным, т. е. основанным на собственном духовном опыте человека. В то время как иудаизм и зороастрийскую религию – еще раз это акцентируем – следует относить к «религиям веры». И если спроецировать это сравнение на традиционное христианство, то «религия» назарея Иисуса, заявленная в евангельском тексте, – это религия мистерий, а «религия апостола Павла» – это обычный религиозный обряд, как и в иудаизме. И в этом – принципиальная разница этих «двух типов религий», искусственно соединенных в единой христианской Библии. Именно по этой причине историческое христианство так разнолико и несводимо к какому-то одному знаменателю. Христос проповедует о семейной паре, а в «Его христианстве» наиболее почитаемо – «монашество» апостола Павла. И это – результат подобного «диссонанса».
Но и евангельские слова Иоанна Крестителя нам теперь тоже понятны (даже независимо от того, кем был этот проповедник в действительности: иудеем или мандеем). Он, как предтеча, должен был «подготовить путь» тому, кто идет проповедовать о Царстве. Иудеи не интересовались духовными вопросами, как, например, назареи, из среды которых вышел Иисус. Они даже смысла первой главы своей Книги Бытие не понимали. Они представления не имели о Давидовом «расширении сердца». А оно, это «расширение», обязано было иметь место, чтобы проповедь Христа была воспринята правильно. Как показала история, этого не случилось.
О мандейских/назарейских текстах можно говорить много, и это – совершенно отдельный разговор. Как следует из анализа Священного Писания мандеев, этот народ принадлежит к наследникам знаний Древнего Египта, – знаний, к которым позднее были добавлены положения зороастризма (но без закона Левирата). Сегодня тексты мандеев, которые могли бы пролить свет на подлинную проповедь Иисуса, никто не стремится исследовать, издавать и популяризировать. Текстов этих много, часть из них до сих пор не переведена на европейские языки. Стараниями первопроходцев – Э. С. Дровер и М. Лидсбарского – главные мандейские тексты увидели свет в первой половине XX века: частично на английском, а другие (включая Гинзу и «Книгу Иоанна») – на немецком языке. За прошедшие почти 100 лет картина принципиально не изменилась.
И в завершении нашей главы приведем читателю некоторые цитаты из книги «Мандеи Ирака и Ирана» (THE MANDAEANS of IRAQ AND IRAN. Their cults, customs, magic legends, and folklore; By E. S. DROWER ('E. S. STEVENS'), Oxford, AT THE CLARENDON PRESS, 1937), которая была написана замечательной первооткрывательницей мандейских текстов Эстер Стефани Дровер, женой английского посла в Ираке. В России издан перевод ее книги «Сокрытый Адам», которая дает представление о том, что означает назарейский гносис.
Стр. 3. Иисус тоже (как и Иоанн Креститель – Г. Б.) в соответствии с утверждениями мандейских богословов, был назареем, но он был бунтовщиком и еретиком, который увел людей с истинного пути, выдав при этом тайну самого назарейского Учения и сделав религию проще (упразднив трудные и тщательно разработанные правила, касающиеся ритуального очищения).
Стр. 6. О рождении Иисуса (в книге мандеев – Г. Б.) сказано коротко, и далее: «Он извратил слова Света и заменил их на тьму и обратил в свою веру тех, которые были Мои и извратил все обряды».
Стр. 41. Мандеи рассматривают безбрачие как грех и относятся к деторождению, как к религиозному долгу. Настолько сильна в этом их вера, что они полагают, что даже самый благочестивый человек, если он умирает неженатым и бездетным, – должен после смерти… после временного пребывания в мирах Света, снова вернуться в физическое состояние и стать отцом детей.
Стр. 59. «Если человек не имеет жены, для него не будет Рая в будущей жизни, и нет Рая на земле» – один гази́бра (соответствует чину епископа христианской Церкви – Г. Б.) заметил мне.
Стр. 59. Моральные нормы жесткие, хотя согрешившую женщину не убивают ее родственники по мужской части, как это обычно имеет место в Ираке среди мусульман. Развод не признается мандейской религией… Женщина не может выйти замуж еще раз, и вдовы не ожидают повторного замужества, потому что религиозные предписания говорят: «муж и жена – как небо и земля», или «как одна душа в двух телах».
Стр. 65. Они говорят: «…Мистический союз мужского и женского принципов Жизни в своей более вульгарной (здесь следует подобрать другое русское слово, напр., «земной» – Г. Б.) форме отражен в нашем человеческом браке».
Стр. 167. Семейные родословные всегда хорошо известны мандеям, особенно священникам, которые сохраняют свои длинные родословные, обычно записывая их в священные книги. Такие родословные уходят в прошлое на пятьсот лет и более. Если какая-то женщина в этой родословной мандея выходила замуж будучи вдовой или не девой, то такой потомок лишался права быть посвященным в сан священника. Отсюда можно сказать, что каждый священник, в известном смысле, от «девственного рождения».
Стр. 174. Если священник совершит серьезный проступок, например, супружескую измену, он лишается всех своих священнических полномочий и обязанностей и не может быть крещен (обряд многократного погружения в воду-Иордан – Г. Б.). Когда он покинет свое тело, его будут мучить огнем и холодом, он воззовет – и никто не ответит ему.
Стр. 268. «Но пророк Моисей никогда не делал себе обрезание; также этого никогда не делал пророк Иисус, т. к. Иисус был из нашей секты назареев, а они не допускают увечья».
Напомним читателю, что об обрезании Христа «по прошествии восьми дней» сказано только у евангелиста Луки, в самом позднем синоптическом тексте. Научно доказано, что те главы этого Евангелия, в которых говорится о детских годах Христа и о Его обрезании, были добавлены в евангельский текст значительно позднее, уже после возникновения Церкви.
В Евангелии от Фомы, которое состоит из отдельных высказываний Иисуса, и которое Церковью не корректировалось, Он заявляет обратное: «Если бы обрезание было полезно, их (иудеев – Г. Б.) отец зачал бы их в их матери обрезанными. Но истинное обрезание в Духе обнаружило полную пользу» (Фома 58/53, пер. М. К. Трофимовой). Совершенно очевидно, что это – заявление назарея, а не иудея. Но и в каноническом Евангелии от Иоанна Иисус говорит иудеям следующее (Ин. 7:22): «Моисей дал вам обрезание, – хоть оно не от Моисея, но от отцов, – и в субботу вы обрезываете человека». Иисус в Своих беседах в подчеркнутой форме отделяет Себя от иудеев и их веры. В данном случае Он указывает иудеям и на то, что их обрезание – не от Бога, а от «предания старцев».
Зададим читателю такой вопрос: если бы подлинный родоначальник христианства, Иисус, был действительно обрезанным (как, например, древние египтяне или евреи, которые в этом следовали египетским обычаям), неужели и все мы, христиане, не обнаружили бы себя сегодня обрезанными? Ведь стремление подражать и быть похожим на свой идеал – это естественное стремление каждого подлинного последователя выдающегося проповедника. Или у нас уже полностью атрофировалась элементарная человеческая логика? Странно, конечно: христиане на растерзание зверями и на костер шли ради этой своей веры во Христа, а сделать обрезание, как Он, не захотели. Или боялись, что «больно будет»? Абсурд!
Подлинное размежевание между христианами и иудеями, которое могло бы стать причиной отмены этого обычая (но ведь Церковь до сих пор не исключила Священное Писание евреев из своей христианской Библии, хоть с иудеями «поругалась») произошло гораздо позднее – через века. К этому времени в христианстве вопрос обрезания уже давно был решен. Христиане отказались от этого еврейского обряда, который был чужд мандейскому проповеднику, с самого начала. Почему? В чем причина, если Христос действительно был обрезан, как утверждает Церковь? И мы не рассуждаем сейчас о том, плохо это само по себе, или хорошо. Речь идет о другом: о том, что подлинный проповедник евангельского Царства не был евреем.
Мандейские напевы
«Книга Иоанна»
Мандейская «Книга Иоанна» (Драшиа-д-Йахья) или, как она иначе называется, – «Книга царей» (Драшиа-д-Малкиа), представляет собой собрание разрозненных текстов, имеющих отношение к «царям», т. е. к небесным существам Света. По религии мандеев Иоанн (Яхья) тоже принадлежит к этим «царям», т. к. в него вселился Эон Света. Но при этом Иоанн Креститель не принадлежит к главным фигурам мандейской религии: человеческую душу спасает не он, а высшие существа Света, которые принимают участие в самом важном мандейском религиозном обряде – маси́кта. Этот обряд производится над умершим человеком и в переводе означает «вознесение (души)». А Иоанну Крестителю отводится роль земного учредителя второго из самых важных мандейских обрядов: масбу́та – «окунание» или «крещение». В этой Книге описывается эпизод крещения Иисуса в Иордане Иоанном Крестителем.
Русскоязычный читатель должен ясно себе представлять, что название этого христианского обряда не имеет ни малейшего отношения к мнимо-одноименному русскому слову «крест». И само именование Иоанна словом «Креститель» в первоисточниках (греческом, и арамейском) также не имеет никакой связи со словами «крест», «крещение». Исходный корень этих слов – это «окунание», «погружение», т. е. буквально – «Иоанн-Окунатель» (бапти́дзо – «погружать в воду», ба́птисма – «погружение в воду»).
Нет ничего удивительного в том, что любого христианина в мандейской религии привлекает не сама экзотика и ярко выраженная религиозная индивидуальность этого народа, а все то, что имеет отношение к Иисусу Христу. Именно этим было вызвано пристальное внимание научной общественности к находкам мандейских текстов. Падение интереса к огромному количеству неожиданно появившихся первоисточников произошло, в том числе, вследствие обнаружения в 1946 году так называемой гностической Библиотеки Наг-Хаммади, в которой, среди прочих рукописей, было и знаменитое Евангелие от Фомы, а также Евангелие от Филиппа. Пламя «мандейского пожара» было сбито «пожаром гностическим». И это прискорбно, потому что Библиотека Наг-Хаммади, за исключением двух упомянутых выше текстов, не имеет к подлинному Христу никакого отношения. В то время как мандеи, они же назареи, – это и есть та подлинная колыбель, которая взрастила исторического Христа-назарея, отошедшего от своей первоначальной «мандейской» веры.
Русскоязычный читатель должен с сожалением констатировать тот факт, что Россия по-прежнему остается «дремучей страной» в части научных исследований подобного рода. Несмотря на обилие человеческих талантов, обстоятельства исторического пути России – сначала дореволюционная церковная цензура, затем советский запрет на религию, и, наконец, пост-перестроечный всеобщий «бум обогащения», поставивший крест на подобных возможных научных исследованиях, – все это оставляет России самые последние, «захудалые» места на общечеловеческом научном форуме. Тот русскоязычный читатель, который, интересуется духовными вопросами, просто обязан изучать английский язык, а еще лучше – и немецкий. Для того чтобы иметь доступ к сокровищам религиозной мысли. Душа России по-прежнему спит, и подавляющему большинству россиян гораздо важнее вопросы пива, футбола, фейерверков, долларов, автосалонов, гаджетов и прочих атрибутов нашей земной жизни.
Пост-перестроечный интерес бывшей советской интеллигенции к вопросам йоги и разной «магии» сошел «на нет» вместе с естественным старением этой категории читателей. Тех, кто родился и вырос в смутное время «перестройки», вопросы «спасения человеческой души» не интересуют, они – «атеисты в квадрате», т. к. являются атеистами уже второй атеистической эпохи российского государства. Сегодня следует констатировать, что иссякли на земле русской подлинные Серафимы Саровские, Силуаны Афонские и Иоанны Кронштадские: Душа России, как туман от земли, медленно поднимается в бескрайние небесные выси, оставляя внизу землю когда-то славных предков. Слишком много страданий, слишком много крови выпало на долю нашего доброго и богатого талантами народа – народа-ребенка, народа страны «искателей Бога». Конца и края этим испытаниям не видно. Куда ни кинь – одно воронье расселось по веткам, да лисы юркают по дворам…
Несмотря на то, что согласно мандейским текстам Иисус считается «лже-Мессией», Иоанн Креститель имеет к Нему выраженное отрицательное отношение. Мы могли бы предположить, что подобное положение вещей – это более позднее наслоение, которое вряд ли отражает действительно реальные исторические отношения между этими двумя подвижниками духа. Однако судя по приведенному ниже тексту из этой «Книги Иоанна», такие выводы делать преждевременно. Слишком реально обрисован здесь этот Иисус, слишком «подлинными» кажутся те Его речи, которые мы читаем в этой Книге. Слишком узнаваем в этой Книге ставший привычным для нас облик евангельского Иисуса Христа. Так мудро и так по-человечески не горделиво говорит только евангельский Иисус. И темы Его примеров и сравнений – они совершенно не типичны ни для кого другого: это те же «дурацкие», по мнению сегодняшнего человека, вопросы, имеющие, в том числе, отношение к сексуальной сфере. Но при этом мы должны сказать нашему читателю, что этого «чисто Иисусова» отношения к вопросам «мужского-женского» нет ни в одной другой религии мира, кроме мандейской. Это сразу же бросается в глаза в религии мандеев.
Ниже мы приводим эпизод крещения Иисуса, взятый из «Книги Иоанна». Перевод сделан нами с английского перевода, опубликованного в Сети. Наш перевод с английского не претендует на точность и научность и призван исключительно для того, чтобы у читателя сложилось общее правильное представление о том, как представлен Иисус в мандейских текстах. Итак, «Книга Иоанна».
«Кто сказал Йешу? Кто сказал Йешу-Мессии, сыну Мирьям, кто сказал Йешу так, что он пришел не берега Йордана и сказал:
– Яхья, крести (окуни) меня твоим крещением (окунанием) и произнеси надо мной также то Имя, которое ты обычно произносишь. Я показываю себя твоим учеником, поэтому я вспомню о тебе в моих Писаниях. Я свидетельствую не сам, как твой ученик, поэтому сотри мое имя из твоих (проклинающих – Г. Б.) страниц.
После всего этого Яхья ответил Йешу-Мессии в Иерусалиме:
– Ты солгал иудеям и обманул (наших) священников. Ты отрезал их семя (потомство) от мужчин и женщин, зачавших и беременных. Саббат (субботу), с помощью которой Моисей установил связь, ты ослабил в Иерусалиме. Ты солгал им под звуки зазывных рогов и далеко за пределы распространил позор с помощью победного рога шафара (культовый музыкальный инструмент из бараньего рога – Г. Б.)».
Когда мы сталкиваемся с текстами древних, но не «монотеистических» религий, мы никак не можем уложить их слова в свои привычные представления. За истекшие тысячелетия менталитет цивилизованного человека стал другим. И как это ни неприятно осознавать, но причиной этому явились, в первую очередь, представители монотеистических религий, в том числе христианства, начиная с таких его защитников, как африканец-Тертуллиан или Ириней Лионский. Мы уже не можем даже представить себе, что в каком-то религиозном сочинении об иноверцах может говориться иначе, чем в ярко выраженной бранной или оскорбительной форме. Но вот вам пример мандейского отношения к своему противнику. Да и противнику ли вообще, если внимательно присмотреться к приведенному выше тексту (и следующему далее)? Здесь налицо совершенно иные критерии подхода к ставшей перед автором этого текста задачей: понять, что это такое? И как это можно объяснить, исходя из единственного критерия: что есть Истина, и что есть Ложь?
У автора текста отсутствуют уже привычные для современного общества и ставшие обычными подходы, основанные или на слепом фанатизме, который, как правило, оправдывается словом «вера», или на сознательной «лжи во спасение», – подходы, одинаково призванные еще до начала здравых рассуждений в любом случае обелить свою точку зрения, а значит, и свою «веру». В приведенном выше примере автор не обвиняет своего противника без размышлений, а пытается его понять, предполагая, что и он тоже может быть искренен. И все эти «за» и «против» автор излагает, прекрасно осознавая при этом, что какой-то читатель выберет, возможно, и не его точку зрения. Так может поступать только тот автор, за спиной которого действительно что-то есть, и это что-то очень большое: автор не боится, что «проиграет» этот конкретный спор, т. к. главное для него все равно останется незыблемым. Он в первую очередь боится нечаянно оказаться на стороне Неправды.
Сегодня этого уже давно нет: сегодняшнее лицемерие – особенно в области религиозных разглагольствований – не знает границ. Мандеи – иные. Они – подлинные аристократы духа. Они не врут – и это их главная отличительная черта. И то, что они – «наивные дети», это, исходя из евангельских слов Иисуса Христа, только их достоинство. То достоинство, которое уже недоступно сегодняшнему европейскому сообществу.
Перед тем, как попытаться оценить отношение автора «Книги Иоанна» к евангельскому Христу, – а значит, в какой-то степени понять общее мандейское отношение к самой проблеме, напомним читателю, что по общепринятому мнению эта Книга, при всей ее «лоскутности», написана отнюдь не современником, и даже не учеником Иоанна Крестителя. Она появилась гораздо позже Евангелий, и именно поэтому Иисус ссылается здесь на «мои Писания», в которых мы тоже можем прочитать об эпизоде крещения Христа в Иордане. Автор «Книги Иоанна» пытается ответить на те же самые вопросы, которые ставила перед собой Церковь первых Вселенских Соборов, и которые так и остались нерешенными по сей день. При этом фигура Иоанна Крестителя была одинаково значимой как для назареев, так и для первых христиан.

