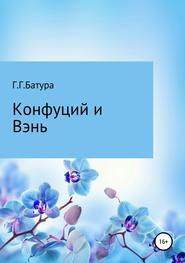 Полная версия
Полная версияКонфуций и Вэнь
– Вонючая вода, которая делается приятной на вкус, – (это) распущенная девица, которая вернула свою честь. Она идет вверх по деревушке, и она идет вниз по деревушке, не снимая покрывала со своего лица.
– Камень, смягчившийся от масла, – (это) еретик, который спустился с горы. Он отказался от магии и колдовства и исповедался «Всемогущей Жизни». Он нашел того, кто остался без отца, и наполнил ему сполна, – и наполнил сполна карманы этой вдовы.
– Поэтому крести меня, о Яхья, твоим крещением и произнеси надо мной то Имя, которое ты всегда произносишь. Если я показываю себя как твой ученик, я вспомню тебя в своих Писаниях. Если я свидетельствую не сам, как ученик, тогда сотри мое имя из твоей страницы. Тебя потащат к отчету за твои грехи, а я – за мои грехи к отчету потащат меня.
Когда Йешу Мессия сказал это, пришло «письмо» из Дома Абатура:
«Яхья, крести этого обманщика в Иордане»…
Но разве возможно такое, чтобы Абатур был несправедлив? И как иначе сделать, чтобы и Иисус получил крещение от Яхьи, и чтобы совесть самого Яхьи была покойна? Эти «письма» пришли к ним из одного и того же Дома: Иисусу – чтобы Он шел на крещение, а Яхьи – чтобы он крестил. Слово «обманщик» сказано только для Яхьи… а может его вообще никто никогда не говорил. Ибо «среди рожденных женами не вставал больше Иоанна, но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11:11). И как объяснить подростку, что детей все-таки не «находят в капусте»? И как объяснить Яхье Правду-Ку́шту о том, что́ есть Царство Небесное?
Диван Абатур
Тех, которые совершают супружескую измену и занимаются соблазнением женщин, – в каком Иордане я очищу их? Тех, которые берут женщин, связанных обещанием и отворачиваются от своей верности, в каком Иордане я очищу их? Тех, которые отпадают от своих товарищей… пылающие в угольях огня, в каком Иордане я очищу их?.. Тех, которые несут в себе семя живой воды и идут, засевая мутные воды, в каком Иордане я очищу их? Тех, которые берут женщину, которая не является их собственной, и имеют от нее потомство, которое они отрицают и которое они называют отверженным, в каком Иордане я очищу их?
«Диван Абатур или прохождение места задержания» (стр. 2)Книгу или свиток под названием Диван Абатур (DIWAN ABATUR or progress through the purgatories. Text with translation notes and appendices by E. S.DROWER. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. MCML) называют иногда мандейской «Книгой мертвых» по аналогии с ее египетским прототипом. Повествование начинается со слов о том, что высший Дух Света – Хиби́ль-Зи́ва – обращается к такому же духу миров Света – Абату́ру Ра́ма, возлагая на него полномочия – судить души умерших (Диван Абатур, стр. 1):
Встань! Поставь свой трон в Доме Границ (между миром живых и миром мертвых – Г. Б.) и облекись полномочием верховной власти. И очисти (раздели) то, что есть здоровое (цельное), и того, что есть отстой, – когда мера человека исполнена и он приходит (к тебе), и получает крещение в Иордане (Небесном – Г. Б.), и взвешивается на твоих Весах, и поднимается вверх, и пребывает в твоем мире.
Подобное поручение пугает Абатура: он должен покинуть небесные Миры и своих «супруг», которые являются «достойными и годными», и спуститься в мир грешных человеческих душ. Хибиль-Зива поручает ему сначала очищать души мертвых в Иордане, а затем взвешивать их с целью определения истинного достоинства каждой души. Мотив взвешивания души после смерти является общим и для египетской, и для зороастрийской религии, откуда он и перешел в верования мандеев.
Абатур пребывает в недоумении: как он может приступить к «взвешиванию» некоторых душ, если их, по его мнению, нельзя допускать даже до крещения в Небесном Иордане? И он задает Хибиль-Зиве первые 15 вопросов, о «тех, которые…». Из этих 15 самых важных вопросов первые два касаются супружеской неверности. И только за ними идут те грешники, которые «отпали от веры», затем те, которые «развязали свой священный пояс», который, как и в зороастризме, дается каждому мандею при наступлении совершеннолетия. Потом следуют те, кто «ест неосвященную пищу», затем те, кто «идет на рынки и улицы и не выполняет ритуал омовения (крещения)» и т. д. Фактически, после «сексуальных грехов» следуют те грехи, которые нами именуются религиозными, и которые, по мнению современного человека, должны быть поставлены на самое первое место. Завершаются эти 15 вопросов опять-таки теми, которые связаны с сексуальным грехом.
Однако дальнейший разговор между Хибиль-Зивой и Абатуром окончательно убеждает недоумевающего читателя в том, что дело здесь не в какой-то случайной «ошибке». После ответа Хибиль-Зивы, который успокоил Абатура и объяснил ему, как следует поступать с такими грешниками, Абатур задает ему очередные вопросы о тех, которые совершают непростительные, по его мнению, грехи (стр. 5):
Затем произнес Абатур, говоря Хибиль-Зиве: «Теперь ты мне все это сказал. Но тех, которые совершили убийство, в каком Иордане я очищу их?».
И после получения ответа Хибиль-Зивы на такой действительно важный вопрос, – еще один вопрос Абатура, возвращающий читателя к начальной теме, но поставленный уже иначе:
– Те женщины, которые недостойны, в каком Иордане я их очищу? Женщина, которая оставила своего первого мужа, и пошла, и становится женой другого мужа, в каком Иордане я ее очищу?
Подобный вопрос может возникнуть только в том случае, если женщина в обществе пользуется полной свободой, т. е. свободой, сопоставимой с сегодняшней.
Мы не будем приводить читателю все те наказания, которых, по разумению Хибиль-Зивы, заслуживают такие грешницы. Все они даже к «очищению в Небесном Иордане» не допускаются. Но современному «христианину», которого не пугают подобные «сказки» об Аде и Рае, чисто по-человечески интересно узнать другое: по какой причине эти «глупые» мандеи осудили грех «супружеской измены» более строго, чем любой действительно религиозный проступок и даже чем убийство другого человека?
«Как можно сравнить какое-то “ковыряние в чужом носу” с убийством живой души?» – Такой вопрос задает себе любой человек, интересующийся историей религий, который случайно наткнулся на эту мандейскую книгу и задумался над этой загадкой. Конечно, человек недалекий вряд ли станет углубляться так глубоко, чтобы читать эту книгу вообще. Но ведь есть такие, которые читают, но никак не связывают ее содержание со своим собственным поведением. Однако если относиться к этой книге серьезно, то она – это окончательный суровый приговор мандеев для 99,9 % всех так называемых «христианок». И никакое венчание в Церкви по «обряду второбрачных» здесь не спасает.
Приступая к переводу этой очень серьезной религиозной книги мандеев, Леди Дровер пережила состояние некоторого шока. Она решила для себя этот непонятный для нее вопрос излишней «щепетильностью» мандеев в отношении секса следующим образом (стр. IV):
Пуританская природа мандейской религии, для которой музыка, танцы, украшательство и разноцветные одежды отвратительны, очевидна во всех своих проявлениях. И древнее табу относительно женщин нашло отражение в тяжелых наказаниях за сексуальную нечистоту, умышленную или неумышленную. Такие жесткие нормы помогли здесь, без сомнения, сохранить здоровье и энергию этой нации.
То есть, по мнению Э. С. Дровер, дело здесь исключительно в «древних табу» и в «сохранении здоровья». Подобным образом современная наука объясняет и возникновение обычая обрезания, выполняемого в качестве религиозного обряда: такой человек «более здоров», т. к. его жена гораздо реже заболевает раком шейки матки. К сожалению, и Леди Дровер, и современная наука, одинаково «смотрят в землю». А мандеи – в сторону Миров Света, и их книга Диван Абатур – это своего рода «водораздел», поставленный между нашим «миром Тьмы» и теми «мирами Света», куда стремилась попасть каждая мандейская душа. И поневоле у границ этого «водораздела» должны более выпукло проявляться все те «недостатки, которые лишают человека это вожделенного Царства Света.
То есть те «сексуальные грехи», которые перечислены в самых первых строках этой книги, – они и являются самыми что ни на есть «религиозными». Причем, грехами главными, последствия которых выражаются совсем не в наших земных слезах и непорядках в семье, а именно в посмертном воздаянии каждой душе во время ее «взвешивания» на весах Абатура (или египетского Осириса, Митры ромеев, зороастрийского Рашна). И только по этой одной причине канонический текст Евангелия буквально пестрит постоянно повторяемой Иисусом-назареем фразой: «Не прелюбы́ сотвори». Иисус, также как и мандеи, смотрит «в Небо», а не «в землю», как это все человечество, Церковь, а заодно с ними и прекрасная Леди Дровер. Или кто-то станет утверждать обратное: что евангельский Иисус заодно с Церковью, а не с мандеями?
Что больше всего любит мышь? – Конечно, сыр. Секс – это «сыр» в нашей человеческой «мышеловке». Просто мы не видим того, кто нас ловит на этот «крючок», – точно так же, как мышь не видит человека, поставившего клетку с сыром. Потому что мы, как и мышь, не способны поднять свою голову «к Небесам», шея одеревенела и сердце окаменело.
Ни Иисус, ни мандеи, секс не отрицают: по Учению Иисуса и по религии мандеев для человека спасение без секса невозможно. Точно так же, как не может у магнита отсутствовать один из полюсов. «Однополюсный магнит» – это нонсенс. Церковь такой «магнит» создала в виде монашества. Причем, в первоначальном «монашестве» мужчина уходил в отшельничество только после того, как заканчивалась его супружеская жизнь. Именно таким «монахом» был евангельский Иисус. И если мандеи, а за ними и арабы, допускают наличие у одного мужчины (как правило, священника) две или три жены, то Иисус – нет. И если у одной женщины было несколько мужчин, то это уже те «цепи», которые навсегда приковывают и эту женщину, и всех ее мужчин – какими бы «девственниками» они не были до встречи с ней – к нашему земному миру. Поэтому Иисус не имел власти дать «живой воды» той самарянке из Евангелия от Иоанна, которую Он встретил у «колодца Иаковля»: «живая вода» не предназначена для таких «многомужних», как она. Также по этой только причине Иисус осуждает иудейский закон Левирата, установленный в Торе: В Его Царстве «не женятся и не выходят замуж», хотя в иудейском Раю такое возможно.
И парадокс еврейского Писания: «левират» зороастрийцев, у которых евреи позаимствовали этот обряд, являлся естественным следствием тех кровнородственных связей, которые были богоугодны зороастрийским Богам. Подобные связи – женитьба брата на сестре и т. д. – считались высшей добродетелью этой веры и полагались обязательными для исполнения. Поэтому обычай брать в жены жену умершего брата и «восстановить семя» было естественным следствием подобной зороастрийской «добродетели». У евреев подобного отношения к «женитьбе на сестре» не было, а закон Левирата, тем не менее, существовал. И чем подобное можно объяснить? – Или непониманием элементарного, или откровенно меркантильными целями: сохранить «достояние» в одной семье и предотвратить его распыление. И кто после этого скажет, что проповедник Царства Иисус был евреем?
И у мандеев, и у Иисуса Христа – цель одна и та же, хотя средства для достижения этой цели различны. Революционность Христа заключалась в том, что Он отверг исключительное право жреческой касты назареев на спасение через мистериальный опыт. Он отверг жреческую касту, как таковую, и дал возможность каждой человеческой паре обрести спасение через мистерии, т. е. через духовный опыт. Но сама суть спасения – одна и та же: мужская ниши́мта-душа впитывает в себя женскую ру́ху-дух, создавая уже на земле единого, не разделенного на «женский и мужской пол» Адама.
И если такой Адам уже создан, в таком случае не принципиально, если один из супругов умирает. В этом случае принципиально другое: чтобы тот, кто продолжает жить, не нашел бы для себя другого земного «партнера». В этом заключается суть евангельских слов Христа о «скопцах». Его жена умерла, а ученики-иудеи упрекают, пусть и не в открытой форме: почему Он не женат, хотя «вмещает это слово», т. е. слово «жениться». Свое требование единобрачия Иисус формально основывает на тексте иудейского Бытия, когда из первоначального андрогена Адама, из его «ребра», была создана Ева. «Рёбер» у мужчины много, но остальные почему-то не оказались востребованными, – даже для «земного» Бога Яхве.
Назареи Тору не чтут: они уверены в том, что их вера и знание пути спасения (вспомним мандейское «Сказание о Мирьяи») появились задолго до того, как иудеи обрели свое «несовершенное» Писание. Путь назареев основан на противопоставлении «частиц Света», заключенных в человеческой душе-нишимте, тому женскому духу-рухе, который так же присущ человеку, как и нишимта, но который является уже проявлением земного страстного мира. Поэтому мандеи полагают, что сильную нишимту священника логичнее «уравновешивать» рухами двух или даже трех женщин-мандеек. Хотя, чаще всего, у мандея – одна жена.
Мирьяи (см. мандейское «Сказание о Мирьяи»), дочь иудейского священника – исходя из своего священнического происхождения и самой «земной» природы иудаизма – должна была аккумулировать в себе «огромную руху». И по этой причине такие, как она, являлись идеальными женами для назареев-священников. Но только в том случае, если они сознательно обращались в назарейскую веру, что и следует по тексту этого Сказания.
Хибиль-Зива сказал Абатуру: «Те, кто совершают супружескую измену, соблазняют и занимаются распутством – (горящий) красный тростник тем. Потому что (супружеская) верность для тебя – важнее, чем все Миры (Света)». (Диван Абатур, стр. 3).
«Супружеская верность важнее, чем все Миры Света». И это – важнейшая истина всей евангельской проповеди Христа о Царстве. Но для традиционной «христовой Церкви» – это нечто второстепенное: Церковь венчает «второбрачных» на Царствие Божие!
Предисловие к «1012 вопросов»
The Thousand and Twelv Questions
(Edited in transliteration and travslation by E. S.Drower. Akademie Verlag, Berlin, 1960)
Если говорить об особенностях самого важного «тайного», т. е. строго запрещенного для прочтения не назареями, текста – «1012 вопросов», то охарактеризовать эти особенности очень сложно. Конечно, наглядно видно, что текст дошел до наших дней в виде каких-то древних «обрывков», которые уже давно никто не понимает. Наглядно видно, как разные составители пытались искусственно соединить эти куски в единое целое, стараясь подогнать текст под хорошо известный им практикуемый древний ритуал богослужения. Бросается в глаза очень частое мелькание слова «мистерия», которое – особенно в начальных главах – не может классифицироваться как обозначение какого-то конкретного, пусть и тайного, религиозного обряда, или – с другой стороны – конкретного духовного опыта, олицетворяющего высшую Мистерию Царства Света. Такие сочинения пишет вдохновенный поэт или человек, находящийся в состоянии опьянения или под действием наркотиков – и все это вместе, в одной личности.
Такое впечатление очень яркое, и оно не пропадает и не сглаживается даже при прочтении текста через «противогаз» английского перевода. Возможно, это заслуга Леди Дровер, которая отнюдь не была сухим педантичным «ученым-ботаником», как ей хотелось казаться исходя из ее «Предисловия» к этой книге. Собирая коллекцию «цветов» в редчайший гербарий, она сумела передать нам божественный аромат этих уже засушенных чудных растений. «Звенит воздух» – когда начинаешь читать этот во многом «глупый», по человеческим понятиям, текст о каких-то там «Финиковых Пальмах» и «Источниках». И в резонанс на это чудное «звучание» начинает расправляться и наше скукожившееся человеческое сердце.
Мне еще ни разу не приходилось читать текст подобного «волшебного настроя» – ни в одной религии мира. Его можно как-то сравнить с коптским Евангелием Истины или с прекрасными Одами Покоя – и тот, и другой текст имеет прямое отношение к мандейско-Иисусову Царству Света. Никакой злобы, никакой земной заботы, – ничего из того, что хоть как-то бы отягощало нашу человеческую душу: земного мира нет, а есть какой-то фантастический, феерический «полет в Небытие», забывший о том, что я, ведь, все еще продолжаю пребывать в человеческом теле.
Но это не простая, пусть и завораживающая «игра красок». Текст несет в себе очень определенный смысл, и главная его характерная черта – это то, что все в мире появилось из «мужского» и «женского», и что эти два – одинаково велики и чисты в своих Истоках. Он о том, что у Самого Высшего нет никакого предпочтения ни к одному, ни к другому: Оно, Высшее, любит и лелеет это собственное чадо или Свое «разделение» одинаковой Любовью, которая выше любой земной любви. Как будто это неведомое «Оно» – оно просто выпустило «их» погулять – побегать по благоухающей ароматами солнечной полянке. Чтобы «они» порезвились и порадовались, как дети, но и «Оно» тоже порадовалось, – глядя на них, как на Свое отражение. А затем Оно снова вберет их – и мальчика, и девочку – в Свое родительское сердце, к Себе вовнутрь. И кто здесь Невеста, и кто Жених – это совсем неважно.
И ничего, что хоть как-то отдаленно напоминало нам о том, что сами мы, люди, называем словом «секс», представляя себе что-то «срамное»: у «Оно» – абсолютно отсутствует наше пеленочное, христианское, инстинктивное «омерзение», связанное с проблемой «секса». У «Оно», а может быть «Они», – только одно бескрайнее, чистое, безмятежное голубое небо отражается в глазах. И это волшебно-облачное «мужское» и «женское» как будто задает тон всем остальным «парам противоположностей», появившимся на свет вместе с ними: «добро-зло», «свет-тьма», «правда-ложь», «правое-левое» – все изошло из того же «Оно», и все в Него вернется в конце времен, потому что у «Оно» ничего не исчезает и ничего не бывает напрасно. И «Оно» ничего и никого не казнит, потому что не ведает этого слова. Да и как Оно может казнить Само Себя?
И не понять нашим человеческим умом эту высшую мудрость Бесконечного Бытия, нашедшую свое отражение в «фантастических» текстах мандеев. Человек не в силах одинаково относиться к Злу и Добру, к Свету и Тьме, и именно эта способность различать «Добро и Зло» приводит его к вратам Спасения.
Но вот эта покорность евангельского Христа к окружающему Его Злу – она именно отсюда. Христос – это, наверное, первый и единственный в мире Человек, который уже при своей жизни как-то сумел восприять себя, как часть этого «Оно». Поэтому Он – Жизнь и Свет. Как о нем сказал евангелист Иоанн, Он – «начаток», т. е. то евангельско-Бытийное ап'архэ́с, в которое существовал единый Адам Шестоднева. И что́ надо было иметь в своей человеческой душе, чтобы оказаться в состоянии уместить эту неземную Вселенную Запредельного в своем человеческом сердце? И для чего Он это сделал, как только не ради человека? Чтобы показать на собственном примере, что́ ожидает нас за Вратами Спасения. Но кто из людей смог понять этот Его подвиг? Подвиг, простирающийся гораздо выше земного подвига крестной смерти, на что способны – даже сейчас! – далеко не единицы. Но впустить этот жуткий Крест «в себя» – так, как будто кормишь желтого цыпленочка из рук – на это был способен только Он один.
Бог… монотеизм… деньги… покойник… вера…
«А мой куличик рассыпался, и я запачкала свои новые штанишки. Вот! И меня мама наругает. А ты – плохой!».
– Не рэви, как маленькая. Хочешь, я подарю тебе мою новую лопаточку? Смотри, сейчас я буду рэмонтировать твой куличик!
И это – слова истинного мандея, который, даже не читая «1012 вопросов», приблизился к пониманию самого главного вопроса в нашей человеческой жизни.
О правильном понимании языка Лунь юя
Процитируем еще раз слова отечественного китаеведа, который отдал много лет решению вопроса правильного понимания текста Лунь юй. В своей статье «Конфуций не так прост» Л. И. Головачева пишет следующее:
«Понятный» текст переводов превращает учение Конфуция в нечто плоское, пресное и очень примитивное.<…> В то же время было бы ошибочным думать, что голос Конфуция слышат те, кто читает канонический текст «Лунь юй» в оригинале – ведь он так же является переводом, только выполненным более двух тысяч лет назад. <…> Приблизиться к пониманию «сокровенных речей» (вэйянь) Конфуция весьма непросто. По словам Бань Гу (32–92), их секрет был утрачен со смертью его последних учеников.
И далее Л. И. Головачева выдвигает две гипотезы, которые, по ее мнению, возможно позволят в будущем приблизиться к пониманию этого текста. Вторую из этих гипотез, в которой заявляется о необходимости «отслеживания движения некой стрелки солнечных часов, не спуская с нее глаз», – следует отнести к фантастическим, точно также, как и заявление Лидии Ивановны о том, что иероглиф Жэнь означает «совесть». Но подобные предположения профессионального китаеведа и прекрасного знатока китайского языка могут свидетельствовать о безвыходном тупике, в котором оказалось мировое китаеведение, включая самих китайцев. Сегодня в далекое прошлое ушло время простой веры человека в милые старые идеалы: нынешний хомо сапиенс требует разумного осознания и логического объяснения всего того, что раньше принималось на веру. Такого объяснения для для текста Лунь юй ни Китай, ни европейская наука предложить не может.
Ко второй гипотезе Л. И. Головачевой (и даже не гипотезе, а очевидному факту) мы внимательно прислушались. При этом следует еще раз напомнить читателю, что главной задачей наших исследований было вовсе не создание какого-то «нового перевода», а выработка основ правильного понимания самого текста. Итак, вот что пишет Л. И. Головачева:
Все иероглифы – это не только слова для вещей, которые этими знаками изображались, но и их омонимы. <…> Перезапись доциньских классических текстов велась со слов тех, кто знал их наизусть. Перезапись велась с помощью пореформенных знаков, большинство их составляли идеофонограммы. <…> Писцы редко понимали значение записываемого и использовали идеофонограммы по собственному разумению.
Общеизвестно, что текст Лунь юй не дошел до нас в своей первоначальной записи, – он зафиксирован на более позднем языке, который впоследствии получил название вэньянь – языке классических древних текстов. Для того чтобы определить главные ориентиры в понимании этого текста – а он был записан на одном из заключительных этапов развития китайской письменности, – мы опирались только на те фактические данные, которые однозначно зафиксированы археологическими находками. И при этом мы отбрасывали, как недостоверную, всю ту информацию об эволюции языка, которая сохранилась в китайских письменных источниках.
Китайская иероглифическая письменность – это подлинный продукт китайского этноса и предмет его заслуженной гордости. Однако этапы развития этой письменности обозначены в китайских источниках очень противоречиво. И именно по этой причине – по причине незнания исследователями чего-то очень важного (например, непонимание ими глубинных причин возникновения в общественной жизни противоестественного письма в виде «стенографического» вэньяня) – мы наблюдаем такое принципиальное незнание смысла самого знаменитого текста древнего Китая.
Итак, после знакомства с текстом Лунь юй у нас сложилось убеждение, что в истории развития китайской письменности существовало четыре главных этапа.
Первый – это появление самых примитивных иероглифов-рисунков «на костях», с помощью которых окружающий мир, включающий в себя мир духов (и это для китайца было самым важным), отображался очень несовершенным образом. Фактически, речь идет о последовательной записи каких-то отдельных процарапанных «рисунков-закорючек». Ни о какой фонетике, т. е. о произношении этих значков, речи быть не может. Первоначальный «словарь» таких рисунков состоял из 400–600 различных значков. Такая «письменность» – это примитивное обращение вождя племени к невидимому миру предков, и к главному представителю этого мира – Шан-ди. Такое письмо – это письмо «немое». И его, если говорить разумно, даже назвать «китайским» не совсем правильно: оно в такой же степени «австралийское» или «африканское», потому что имеет общечеловеческое воплощение, как, например, примитивное наскальное изображение охотника и зверя. Первый этап – это запись «символов», которые универсальны для всех народов.

