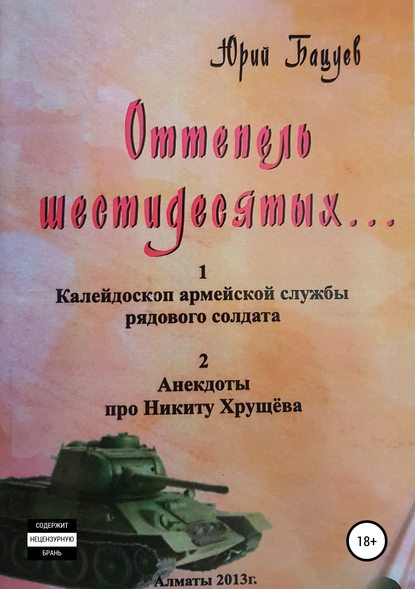 Полная версия
Полная версияОттепель 60-х
…И вот мы на Красной площади. Перед нами «стены древнего Кремля», и сам Кремль. Странные чувства охватили меня. С одной стороны – ошеломляющее восхищение. Нельзя находиться здесь и просто созерцать это рукотворное величие, так как заключает оно в себе что-то таинственное и могучее. А с другой – удивление и некоторое разочарование. Оказывается, Манежная площадь, выложенная булыжником, в действительности по сравнению с той, которую видишь на открытках и по телевидению – удручающе мала. Тем не менее, в совокупности – это неповторимый ансамбль архитектурного зодчества, который остаётся в памяти навсегда.
… И действительно, в дальнейшем я побываю в разных местах земного шара, но ничего подобного не увижу и душевно не испытаю таких непередаваемых чувств, которые ощутил, находясь у Кремля. Тогда, созерцая всё это, я, восторженный и поражённый величием сотворённого русским человеком деяния, вдруг почувствовал, как что-то напрягло моё сознание. Мне показалось, что я ощущаю беспокойство и страх, таящиеся за этими величественными стенами. Тот страх, который, наверное, испытывали все завоеватели прошлых времён, когда находились внутри Кремля. Потому что в покоях Кремля никогда не было спокойно. И это чувствовали не только завоеватели, но и сами хозяева. Всех их обуревала тревога: они подспудно осознавали, что хозяева-то они временные. А сила Кремля именно в постоянном внутреннем брожении, в поиске бесконечных перемен, которые являются непременным условием жизни. И если кто в угоду себе или чьим-либо амбициям попытается остановить это «брожение», он обречён на неимоверный страх и безысходный конец.
…Что же касалось меня, то здесь у древних стен устремлённого ввысь Кремля, как и в любых замках, внутри которых доводилось бывать, я почему-то испытывал тоскливое одиночество. И потянуло меня в маленький домик, домик-времянку, где прошло детство, и где по-человечески всегда уютно и спокойно. А здесь, среди всего этого величия, можно и нужно побыть и бывать, чтобы затем непременно уйти, отдалиться…
Вечером мы были в Большом театре, слушали оперу «Чио-чио-сан» Пуччини. Кузина Агнии Илларионовны – тётка Эдика – приехала с дочками. Места у них были в партере. А мы с Эдвардом разместились на самом верхнем балконе, потому что билеты приобрели накануне – какие уж достались. Но всё равно было хорошо. С высоты последнего яруса Баттерфляй в своём пышном одеянии выглядела распустившимся ярким бутоном. Фигурки остальных персонажей казались игрушечными. Отдалённость от сцены не умоляла звучание голосов. Акустика в театре была великолепна. В антракте мы погуляли с тётей и её девицами по великолепным залам. В одном из них я и передал письмо Агнии Илларионовны, предназначенное для министра.
Только к полуночи мы вернулись в Бутово, теперь уже, наверное, во временные и для хозяев пенаты. Рано утром нам надо было не опоздать на электропоезд, направляющийся в сторону Горького, чтобы во время попасть в свою часть.
… Как и ожидалось, после вступления в партию, ефрейтора Короткова сразу после нашей поездки в Москву, направили в распоряжение дивизии на комсомольскую работу. Потом он только изредка заезжал к нам в полк по комсомольско-партийным делам, будучи уже в чине сержанта.
Постскриптум.
И после армии я нередко встречался с Эдуардом Коротковым, когда по туристским, а позднее и по производственным делам приезжал в Москву. Эдуард успешно окончил Московский экономический институт им. Орджоникидзе. Остался при институте, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Стал профессором. Часто ездил за границу, сначала сопровождал студентов, направляемых для обмена опытом. Затем стажировался в Англии, а потом уже сам, как научный работник, побывал во многих странах. Я познакомился с его женой Наташей, с которой они вместе учились в институте, защищали диссертации и ходили в студию народного театра, где проявляли себя и как артисты.
Фёдор Сёмин и иже с ним
Федя Сёмин был разбитным парнем, по крайней мере, таким казался, когда появился в нашей части с двумя другими парнями, прибывшими в сопровождении лейтенанта из Москвы. Все трое миновали «карантин», где в течение месяца только что призванных полусолдат приводят в «армейское» чувство, знакомя с курсом молодого бойца. Потом, после индивидуальных стрельб из автомата, все принимают присягу. И только тогда ты уже солдат. Трое же этих ребят вошли в строй полка как бы спонтанно. Кроме Сёмина, один из прибывших был боксёр первого разряда по фамилии Кожин, а другой – Усачёв – бывший студент Института Международных отношений. Их доставили буквально накануне Нового года. Казалось, будто отловили поимённо и доставили в часть. Приблизительно, так оно и было. Сёмина прихватили на квартире, где он проживал вместе с родителями. Боксёра Кожина забрали сразу после окончания спортивных сборов, а студента Усова после переговоров с администрацией института.

Сёмин, кудлатый симпатичный паренёк, довольно легко вписался в общую массу солдат. Это был неунывающий по тому времени «чувак», беззаботно напевающий песенку под мотив рок-эн-рола: «Как у нас, как у нас развалился унитаз, все соседи в страшном горе собралися в коридоре…». А когда удалили с его головы «патлы», одели в военную униформу и поставили в строй, он и вовсе слился с серо-зелёной массой военнослужащих. Боксёру Кожину пришлось заставить себя «уважать» не личным обаянием, а испытанными в спортивных боях кулаками. Причём первый бой он провёл хотя и успешно, но, не совсем сообразуясь с условиями. Во время схватки он сразу определил слабое место противника, который огромными кулачищами хорошо закрывал свою голову. Поэтому Кожин провёл серию ударов по поясу противника, не задумываясь о том, что чуть ниже солнечного сплетения у того на ремне была, как броня, солдатская бляха, которая защищая противника, сильно раскровила кулаки Кожина. Правда, он это почувствовал только после схватки. Когда это уже не играло роли, так как он достойно постоял за себя.
Солдат: – Нет, спорт полезен. Вот он был тихим, скромным, а теперь видишь: на человека замахивается, хотя занимается всего месячишку.
Совсем по-иному сложилась ситуация у бывшего студента МГИМО. Проходило комсомольское собрание, и он, привыкший к выступлениям и быть на виду, взял слово и заговорил о том, что служить в армии ему нравится, только нехорошо ведут себя некоторые солдаты, и стал жаловаться, что они его незаслуженно обижают. На следующий день после собрания он пошёл к капитану – командиру роты и рассказал о том, что сослуживцам не понравилась его «активность» на собрании, и они ночью забросали его подушками.
– Ну и как пожалел тебя капитан? – поинтересовался я.
– Он сказал, что мне надо было с ним посоветоваться сначала, а потом выступать на собрании.
– А ты что?
– А я сказал, что поступил так, как поступаем мы в институте.
– Ты так и сказал? – удивился я.
– Да. А сегодня они меня довели до того, что я сбежал в санчасть.
– Ну, это ты напрасно, – не удержался я и съехидничал: – Ведь тебе «нравится служить», а здесь, опять же, не любят тех, кто ходит по пустякам в санчасть и к ротному.
– Они вынудили меня, – сказал Усов.
– Кто?
– Все.
– Видишь ли, – подвёл итог светской беседы я, – ты неправильно себя повёл. Армия срочникам не нравится. Да и кому может понравиться в течение трёх лет быть заложником. Это суровая необходимость, и здесь просто надо терпеть.
Боксёра Кожина вскоре снова отозвали на спортивные сборы, теперь уже ни как гражданское лицо. Периодически между сборами он появлялся в части. Так проходила служба у многих перспективных спортсменов.
Рядовой Усов, будучи эрудированным и осведомлённым в международных делах, вскоре стал выступать в качестве лектора не только в части, но и на предприятиях города Дзержинска. И даже, говорили, написал письмо в Министерство обороны с предложениями сократить срок службы и больше уделять внимания непосредственно военной подготовке.
Рядового Сёмина теперь можно было видеть ежедневно в строю личного состава танковой роты третьего батальона. Выглядел он так бодро, будто прибыл сюда из Суворовского училища. Чувствовалось, что не очень тяготится положением. Наверное, потому что это ему было интересно.

В начале марта следующего года согласно учебному плану на военном полигоне проходили показательные стрельбы по закрытым огневым позициям. Танки стреляли снарядами стомиллиметрового калибра. Огневые точки «противника» находились за несколько километров. Чтобы поразить невидимую цель, необходимо было делать точные безошибочные расчёты. Рядовой Сёмин, находясь всего три месяца в армии, отлично справился с задачей. Он быстро и чётко рассчитал все параметры, и танк Т-54, где он оказался наводчиком, поразил все цели. Стрельбы проводились на уровне дивизии, и сам генерал – командир дивизии объявил рядовому Сёмину в качестве поощрения десятидневный отпуск на родину. Это было невероятно. Но это произошло. И Федя Сёмин, родители которого ни о чём подобном не подозревали, нежданно-негаданно явился на побывку домой. Он предстал перед ними в парадном мундире, непривычно собранный и подтянутый, и трудно было узнать в нём того «кудлатого чувака», который три месяца назад покинул отчий дом.
После его возвращения из отпуска вскоре мы сблизились на почве разговоров о литературе. Оказалось, что Федя очень любит фантастику, и сам мечтает стать писателем-фантастом. Мне же из этого жанра нравились только «Человек-невидимка» Уэллса и «Человек-амфибия» Беляева. Всё остальное я воспринимал как заумные идеи технического прогресса. А волновали меня по-настоящему в основном писатели – реалисты, классики русской, французской, английской и американской литературы. В последнее время меня, как и всех советских читателей, очень увлёк Э.Хемингуэй. Тогда во многих домах на стенах висел портрет заросшего седой щетиной великого писателя. Он стал моим злым гением. Готовя себя в литераторы, я считал, что именно так, как он, должен писать современный писатель. Его усечённые предложения и повторы, усиливающие эффект в описаниях и диалогах, гипнотизировали новизной и непривычной простотой повествования. Я по ошибке тогда даже решил, что тургеневские подробнейшие описания природы только утомляют читателя. И что надо для изложения сюжета находить такие словесные «мазки», которые вмещали бы в себя максимальный заряд чувств и мыслей. А главными, на мой взгляд, в произведении должны являться диалоги, которые оживляют действия и не отвлекают внимания на посторонние явления. К такому заключению я пришёл, начитавшись литературы о художниках– импрессионистах и наиболее ярком среди них экспрессионисте Ван Гоге. Они не копировали жизнь (что можно делать с помощью фотоаппарата), а отражали её глубинные, порой усиленные «мазками» и другими приёмами, стороны, и своё яркое отношениё к ней.
Перенося методы изображения этих живописцев на художественную литературу, я тогда серьёзно ошибался, особенно относительно тургеневских описаний природы, считая их излишними. Я не понимал, что Иван Сергеевич Тургенев свои «природные» повествования не выдумывал, находясь в кабинете, а, с ружьём в руках уходя на охоту, глубоко изучал природу, наблюдая в деталях её проявления и видоизменения. И только глубоко прочувствовав, преподносил её не как учёный ботаник, а как мастер слова – олицетворённой и оживлённой. Потому что на самом деле окружающая нас природа развивается по своим законам, и нет в ней тех чувств, которые волнуют нас, когда мы читаем художественные произведения.
У Хемингуэя был свой репортёрский стиль. У других великих писателей тоже своя манера письма. И это нужно просто уважать, а для себя, если тоже хочешь влиться в русло художников слова, надо находить свой путь и свой почерк.
Прослышав о том, что я восхищаюсь и ставлю в пример стиль Хемингуэя, Сёмин как-то, застав меня за «писаниной», не без иронии произнёс: «Учишься писать по-хемингуэевски? Смотри, а то всё будешь только учиться, и для своей работы времени не останется, к тому же потеряешь свой собственный язык».
Ещё он негодовал по поводу моего отношения к фантазии. «Зря ты отделяешь настоящую фантазию от реализма, потому что полноценная фантазия – это высшая форма реализма. А у твоего любимого Беляева мне ловить нечего, в «Человеке-амфибии» привлекает только чувственная коллизия, душевно броская сторона, а как фантазия, она мелка»… «Конечно, – говорил он, – наша современная фантастика менее сильна, чем многие из ранних утопических романов 19 века. Но всё-таки я советую тебе зайти в книжный магазин и купить небольшую книжицу «Через 100 и 1000 лет». Она даст тебе многое, в том числе изменит и отношение к фантазии».
Вокруг всего этого мы частенько спорили. А что нам оставалось? Писать мы ещё не могли, не умели. Но желание было. «Да разве найдёшь, отыщешь слова, которые могут выразить все чувства, которые потрясают человека?» – рассуждали мы.
Иногда Сёмин откровенно заявлял: «Я хочу писать, хочу, чтобы мой мозг работал, а душу щемило. Но всё, что я перебираю в памяти, так мало значит, что просто опускаются руки».
Нам надо было ещё многое познать, в том числе и саму жизнь, прежде чем заявлять о себе.
Приятно было узнать и то, что Сёмин увлекается поэзией и даже пишет стихи. В порыве откровенности он рассказал мне о любимой девушке Нине, которая, как он выразился – «накаутировала» его с его же другом. Здесь, в армии, всё это всплывало и наводило на грустные мысли, проявляясь в стихах:
Ушедший день в багрянце догорает,
Объявши жаром дальние кусты.
Солдат не спит. Солдат мечтает.
В мечтах солдату вновь явилась ты.
Или:
Ведь в буднях праздники только и помнятся.
А с почтой дорога короче, прямая.
Сколько завтра тебе исполнится?
Прости, не помню. Но поздравляю.
Теперь, как друг или как товарищ,
Тебе приятное сделать рад.
В груди отпылало былое пожарище –
Теперь не любимый тебе я, а брат.
Как мы воскресили серенаду
…Голос у меня «зычный». Мы ещё пацанами, бывало, залезем на покатую крышу самого красивого в посёлке трёхэтажного дома (дом был с колоннами, что и подчёркивало его особенность) и горланим песни, какие только взбредут нам в головы.
«Как родная мать меня провожала,
Как тут вся моя родня набежала:
А куда же ты, Ванёк, а куда ты,
Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты…»
Или:
«Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока твоя воля,
Как поймаю, зануздаю
Шёлковой уздою…»
Пели всё, что слышали на гулянках, по радио и в клубе. Став чуть старше, я, чтобы получать контромарки и попасть бесплатно на танцы, записался в клубный хор. Там и узнал, что у меня второй тенор. Позднее, учась в техникуме, своим вторым тенором я тоже «разбавлял» хор. Хормейстером у нас был седой старичок. Однажды, чтобы выделиться в городском смотре, он включил в репертуар какую-то хоровую песню (кажется, из оперы Мусоргского), где мы очень дружно, разделённые по голосам, пели:
«Гадай, гадай, девица,
Отгадывай, красная,-
Через поле едучи,
Руссу косу плетучи…»
А потом громко и выразительно:
«Кумушки, вы голубушки,
Вы скажите, не скрывайте,
Моё золото отдайте…»
В конкурсе мы не заняли почётного места. Позже я понял почему, когда случайно услышал по радио эту хоровую песню. Там она пелась и звучала на другой мотив. Наверное, хормейстеру не удалось направить наши певческие старания в нужном направлении. Но не это важно. Важно, что у меня был всё-таки «зычный» голос. Иногда я, чтобы продемонстрировать это, грациозно встав в театральную позу, объявлял: – Исполняется «Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль», и выдавал:
«Страстью и негою
Бурно трепещет
Пламя желаний
В кипучей крови!»
Дальше я не знал ни слов, ни содержания самой оперы. Но самоуверенно-нагло демонстрировал свой «зычный» голос. В армии мне это очень пригодилось, когда надо было пройти мимо трибуны строевым шагом с песней. Мне очень нравилось запевать песню «На заре»:
«Уходил я в армию в сентябре,
Распрощался с милою на заре…»
После этого все, кто как мог, но очень громко, должны были пропеть:
«На заре, на заре
Распрощался с милою на заре».
Получалось звучно и эффектно. Нас всегда выделяли и ставили «хорошо», хотя в нашем комендантском взводе с песней шагало не более десяти человек.
…Мы находились в Золино на военном полигоне, где проходили практические занятия по стрельбам. Это были ежегодные плановые занятия. Собирались там военнослужащие из разных частей. Однажды в свободное время мы подошли к группе солдат, окруживших поющего под гитару ефрейтора. Зазывно звучали слова:
«Пусть годы счастья мчатся чередой,
Но буду счастлив только лишь с тобой.
Пусть тучи пронесутся надо мной,
Как годы, что ушли в туман седой.
Где же ты, моя любовь?
Для кого твои глазки горят,
Для кого твоё сердце стучит,
С кем ты делишь печаль?
Никто тебя не любит так, как я,
Никто не приголубит так, как я,
Никто не расцелует так, как я,
Любимая, хорошая моя.
Где же ты, моя любовь?.. и т.д.
Ефрейтор шустрый, симпатичный парень, служил где-то поваром, но пел так задушевно и проникновенно, что постоянно собирал толпы солдат. Тем более что слова-то были как раз те, которые рвутся из сердца, истосковавшегося по любимой девушке солдата. Мы часто слушали тогда эту песню и зауважали ефрейтора, который безотказно и с удовольствием её пел.
Был пасмурный дождливый день. Личный состав находился в казарме. Мы оказались на одном этаже с тем самым поющим поваром. Его звали Виктор. Все, уже привыкшие к его игре и песенкам, на этот раз не собирались в круг, а слушали, занимаясь каждый своим делом. Он виртуозно наигрывал испанские мотивы. Я подошёл к нему и напел мелодию, которую когда-то где-то услышал, она никак не выпадала вот уже два или три года из моей души. Мелодия напоминала серенаду. Виктор быстро уловил ритм и мотив напева, а я без слов одним голосом попытался выразить то, что чувствовал. Сначала тихий блуждающий, ищущий нужное звучание, а потом – уверенный, как мне показалось, звонкий тенор разлился по казарме. Голос привлёк внимание всех, кто находился в ней. Собственно, голос только передавал оттенки, глубину чувств, которые таились в напеве. Украшала этот напев виртуозная игра, звучание гитарных струн, которые перебирал Виктор с дьявольским мастерством. Нас окружили. Что-то ужасно тоскующее, надрывающее душу истекало из центра нашего круга. Всё было так неожиданно и так трогательно, что даже старшины и офицеры не выскочили из канцелярии, как обыкновенно, чтобы «прекратить шум», а с удивлённым интересом спрашивали: – «Кто это там поёт?» Раза три мы повторяли мелодию. Не хотелось с ней расставаться. Виктор спросил: «А где же слова?»
Тут рядом со мной стоявший Сёмин заговорил: «Да они сами, эти слова просятся. Это же тоска по любимой. И сама мелодия кричит: «Милая, милая, где ты теперь, дорогая?..» А дальше должны быть звёзды, звёздочки, среди которых разливается эта мелодия. Настоящая серенада!» Сёмин вытащил авторучку. Нашли бумагу. И мы вместе с ним разбили мелодию на ударные и безударные звуки, составив схему ритмического звучания.
Слова должны быть просты, это серенада, обращённая к милой. Она звучит звонко, но звуки её наполнены тоской по любимой и одиночеством. Сёмин, схватив бумагу, выскочил из «музыкального» круга и убежал в укромное место, чтобы заполнить созданный нами каркас стихами. Минут через пятнадцать он вернулся. Глаза его блестели, а сам он был бледен. «Звёздочки, звёздочки…– лихорадочно бормотал он.– Чушь-то, какая? Но эти слова как раз здесь необходимы, также как и обращение «милая, слышишь, как сердце больное страдает?..»
Серенада была готова. Мы с Виктором приступили, так сказать, к концертной её обработке. Решили сначала просвистеть мелодию, потом пропеть один куплет, после чего, вместо повтора двух последних строк, напеть мотив без слов. Всё было решено и расставлено по местам. Я запел, Виктор мастерски заиграл струнами, Сёмин молча стоял рядом. Шлоссер – солдат, мой земляк, открыв рот, замер. Казарма вновь всполошилась и напряглась. Все слушали жадно. У всех были любимые девушки, все тосковали душой, а теперь ещё и слова нашлись. Простые, понятные; может, и не совсем утончённые. Но почему-то в эти совместно проведённые на военном полигоне дни почти все солдаты переписали эти слова.
Серенада «Тоска о любимой»
Милая, милая,
Где ты теперь, дорогая?
Как о тебе
В этот вечер грущу и мечтаю?..
Звёздочки в небе
Всё ярче и ярче мерцают,
Нежный призыв мой
Сквозь тучи тебе посылают.
Звёздочки, звёздочки…
Голос звучит замирая.
Милая, слышишь,
Как сердце больное страдает?
Годы идут –
Сердце жизни минуты считает,
Зов мой, тоскующий,
В звёздной ночи замирает.
…В начале августа рядового Сёмина и командира экипажа – моего земляка Шлоссера – направили в составе группы танкистов в учебный центр для отработки навыков при преодолении танками водной преграды, с погружением танка с экипажем в акваторий. Пробыли они там не менее трёх месяцев. Я отправил письмо на имя Феди (теперь мы его звали Мефодием) Сёмина, и вскоре получил обширный ответ.
«Здравствуй, Юрок! Здравствуй, добрый мой наставник! – отвечал он не без юмора. – Хоть ты и пишешь, что тебе всё равно, вижу, не хочешь, чтобы я по-прежнему валял дурака: писал ничего не значащие стишки и занимался прочей мутью. Я сейчас уже многое понял: за большинство прошлых «творений» даже стыдно и порой чертовски хочется бросить всю эту писанину, не забивать голову чем-то большим, возвышенным, а быть простым сереньким человечком – кушать спокойно хлебушек и щи, смотреть по выходным хиленькие кинофильмишки и восторженно хлопать в ладоши таким вещам, как «Девчата». Но, понимаешь, не могу я так… не могу не восторгаться красками и свежестью утра, не могу не любить красивое. Хочу, чтобы всё было так, как у Ефремова. И пытаюсь подготовить себя к тому, чтобы внести свой вклад в жизнь… И не ругай меня за то, что я стремлюсь «фантазировать». Ты считаешь, что сейчас нужно писать о наших днях, о живущих героях, показывать красоту сегодняшнего человека, его жизнь. И я хочу этого. Но я хочу показать и то, как растёт это в человеке, совершенствуется, становится богаче и сильней, и каким это будет в будущем. Большой замысел? Да! И ты сейчас, наверно, усмехаешься своей скептически-многозначительной улыбкой и думаешь, что я замахиваюсь, на бог знает, какую гору. И силёнок у меня не хватит. Я и сам знаю, что хочу очень многого, и сам не уверен, что смогу достичь своей цели. Может быть, даже не ступлю на первую ступеньку той лестницы, по которой собираюсь идти. Но если случится так, то я, действительно, кончу алкоголиком или, может, произойдёт что-нибудь похлеще». Далее он сообщал о конкретных своих творческих делах и задумках. Из направленных мне стихов очень понравилось следующее:
До утра совсем чуть-чуть осталось,
Месяц притаился у окна.
Над казармой нашей разметалась
Чуткая ночная тишина.
Тонкие берёзоньки укутала
Зыбкою прохладною фатой,
И сама меж них будто запуталась,
Заблудилась в темноте ночной.
Выйти что ль с тобою поаукаться,
По росному лугу побродить.
Свежестью предутренней окутаться.
Из ручья пригоршню звёзд испить.
Я сейчас сонлив чуть и спокоен
И с тобой в один настроен лад:
Захотел немного твоего покоя
За ночь измечтавшийся солдат.
Я пойду сторожко и тихонько:
Ни одной травинки не помну,
Ни словечка не скажу я громко,
Ни одной пичужки не спугну.
А у речки, что простёрлась длинно,
Тишиной прохладной стану сам.
Мы с тобой сольёмся воедино,
Потечём по травам, по лесам.
«Стихи посылаю, – продолжает он в письме, – только для того, чтобы доказать тебе, что я не бросил ещё свои пробы. Пытаюсь что-то делать и в прозе. Приступил к написанию повести. Результаты есть, но плачевные. Поэтому я оставил её пока. Испугался огромной работы, которую нужно делать. Но скоро, надеюсь, взяться за неё вновь и, возможно, что-то получится. В ней нет ничего фантастического. Хочу показать мыслящего парня, современника, человека моего круга и образа жизни, и очень славную, по-настоящему красивую девушку – Зою.
Фантазировать сейчас не думаю, хочу готовиться к поступлению в институт на физико-математический факультет. Приезжала мама и привезла учебники по математике, но всё никак не могу за них взяться. В любую свободную минуту лезет в голову рифмованная тоска и я пишу её, а для занятий времени не остаётся… Плохо без девчонки».



