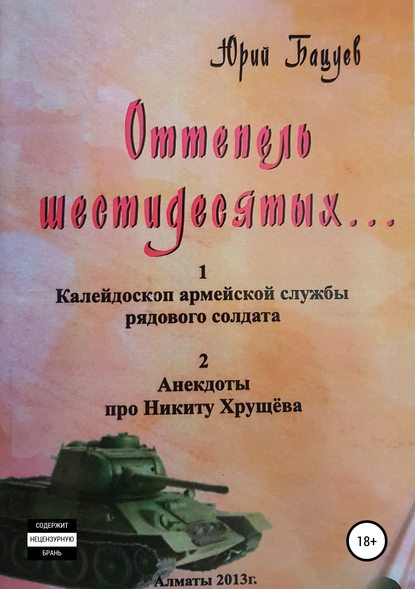 Полная версия
Полная версияОттепель 60-х
…Я встретил её, жену мою, схватил прямо с подножки поезда на руки и понёс. Она показалась мне лёгкой, хотя была в зимнем пальто. Я опускал её с рук только для того, чтобы ещё и ещё раз взглянуть в глаза и расцеловать. И снова нёс по тёмной привокзальной улице в направлении гостиницы. Наконец-то она была рядом со мной – любимая, родная, единственная. «Я так много о тебе думал, милая, что даже не верю, что мы вместе», – говорил я. «Но теперь я перед тобой», – отвечала она. Мы шли и целовались.
…Потом, когда мы оставались в своём номере одни, то говорили друг другу такие глупости, которые свойственны только влюблённым, и если бы их услышал кто посторонний, удивился бы – настолько они бывают никчемны и бессодержательны. Таков язык любви, соловьиная песня.
– Знаешь, – как-то сказал я, – не могу отойти от вынужденного паралича.
– О чём ты, милый? – удивилась она.
– О том, – рассмеялся я, – что за время нашей разлуки разучился даже целоваться с девушками.
– Ничего. Мы исправим этот «недуг», – успокоила она меня.
– Родная моя, ты такая сладкая. Ну, прямо возьму, да и съем тебя.
– Всю не съешь.
– Это почему?
– Потому что любишь.
– А за что ты любишь меня? – спросил я.
– Не знаю. Разве можно на это ответить? Просто я люблю тебя всякого, вот и всё, – был её ответ.
– А я люблю тебя за то, что ты постоянно меня побуждаешь к совершенству. Заставляешь работать над собой, расти духовно и быть лучше.
– Ты очень изменился за этот год.
– Да, я это чувствую сам.
– Сейчас ты мне нравишься больше. Ты стал серьёзней.
– Что ж, женщины любят серьёзных мужчин.
– Ты стал собранней.
– Да, – согласился я.
– И как мужчина ты изменился.
– Я старался тебе нравиться.
– Знай, ты мне всегда люб.
– Я работал над собой, чтобы всегда тебе нравиться.
– Но ты и ещё изменился.
– Как это?
– Когда мы среди людей, ты ведёшь себя скованно. Вот вчера, например, в ресторане. Раньше ты был не таким.
– Это плохо?
– Ты словно боишься людей.
– Это заметно?
– И ты злишься на них.
– Это пройдёт, как только вернусь из армии.
– И всё-таки ты очень хороший.
– Скажи ещё, что ты любишь меня.
– Не сомневайся, любимый.
– И ты тоже, родная. Дай, я тебя поцелую.
– Целуй.
– Укажи куда.
– Ты целуй, милый, целуй, а потом спрашивай. А лучше ничего не говори.
– Прелесть моя, роднущая моя, как я тебя люблю…
В таком духе и проходили наши беседы между бурными ласками. И оба мы были счастливы. Но были беседы и более серьёзные.
– А знаешь, – однажды в другое русло перевёл я разговор, – осенью мы были на военном полигоне в Золино. Со мной случилось такое, о чём я до того времени не задумывался. Я даже отметил этот момент в записной книжке, – книжка была при мне и я зачитал: «Встал с настроением, будто жена изменила. Вот уже второй день хожу шальным». А дальше приписка: «Вот так быть женатым солдатом. Может, так оно и есть?» – Это случилось 20 августа, за три месяца до твоего приезда. Может, ты припомнишь, что с тобой было в этот день? – обратился я к своей жёнушке, но тут же спохватился: – Впрочем, не надо, ничего не говори. Получается, будто я побуждаю тебя оправдываться.
– Вот что, милый, – заговорила она, – у нас и до женитьбы была разлука, пока я училась в Ленинграде. Мысли и у меня были разные. И не один раз. Но я тебе отвечу так: – Делить любовь с кем-то я не могу, мне или всё отдай, или ничего не надо.
– Ты, пожалуйста, не обижайся, родная, любимая моя, – прервал я её. – Я доверял и доверяю тебе. Но у нас в полку, ты не поверишь, у всех моих знакомых ребят жёны ушли к другим. А ведь не прошло и года.
– Я тебе сказала то, что ты слышал.
– И всё-таки, – продолжал я разглагольствовать на эту тему, – обид у меня не может быть, даже в том случае, если это произойдёт. Верность должна быть обоюдной. Но условия у нас разные. Мне легче быть «верным» уже потому, что я нахожусь, пусть не за колючей проволокой, но за забором. А ты живёшь на «свободе» среди широкого круга людей и соблазнов. И время сейчас не такое, какое было во времена Великой Отчественной, когда все были солидарны, даже в вопросах верности. А сейчас, всё по другому:
Меня в сорок пятый обуют,
Я буду посты караулить
И крест свой солдатский нести,
А ты веселись,
Не грусти.
– Не будем об этом, Юрч, – перебила она. – Ты знаешь, я подала заявление на квартиру. Приедешь, а у нас квартира. Я смогу обнять тебя, сесть на колени, и никто нас не увидит. Я помню, как ты стеснялся ласкать меня, когда мы жили в Чимкенте у моих родителей. А теперь всё будет по-другому. Не сомневайся, любимый.
– Я когда нахожусь в увольнении, – переключил я разговор, – всех встречных девушек сравниваю с тобой. И все они кажутся не такими – ты лучше всех, желанней и любимей.
– Спасибо, родной. Я вспоминаю, как в первые дни нашей совместной жизни, после приезда из Баку, там, в Чимкенте, в ожидании отъезда в Алма-Ату мы во дворе кололи дрова-саксаул: я подавала чурки, а ты разбивал их о камень. Бил по камню сам, а меня спрашивал: «Устала?». В шесть часов утра ты уезжал на работу в «свои необъятные степи». А вечером мы всей семьёй собирались за столом. Ты аппетитно поглощал ужин, согретый домашним теплом и моей улыбкой. Я смотрела на тебя. Потом ты приходил в себя и рассказывал всё, что происходило с тобой днём. Рассказывал интересно, с юмором и со смыслом. В эти минуты ты мне нравился. Но потом ты был болтлив, и я обрывала тебя на полуслове, а ты злился. Мне ты нравился содержательным. Потом мы с тобой валялись на полу на кошме – обнимались, целовались, баловались. Затем ты усаживал меня на плечо и возил по комнатам, приговаривая: «Посади жену на шею – на голову сама взберётся». И бегал со мной вприпрыжку. Мама улыбалась, а я была счастлива. Но в Алма-Ату мы не уехали. Тебя забрали в армию. И я, просыпаясь по ночам, мысленно кричу: «Милый, где ты?! И когда, наконец, кончится эта разлука?»
– Да если бы не ты, я вообще не знаю, как жил бы здесь, ты всегда со мной, любимая. После учений, которые проходили в лесу, я сделал в записной книжке прозаическую зарисовку. Лучше я прочту её тебе. Ты поймёшь, как мне дорога, и как я тебя люблю.
Мир да Любовь
Небо было сравнительно ясное. Лишь кое-где синева была покрыта лёгкой поволокой и светло-серой серебристой рябью. Деревья в лесу стояли безмолвно, лишь изредка оживали, соприкасаясь с лёгкими порывами ветерка. Жизнь деревьев мы только тогда и ощущаем, когда они взаимодействуют с ветром. А то, как они растут, впитывая внутриземные соки, мы не видим, поэтому они для нас безмолвны, пока не всколыхнёт их сила ветра.
Трава под ногами уже желтела, лишь в заболоченных местах оставалась пока ещё зелёной. Лес состоял преимущественно из сосен, берёз и редко лип. Попадались рябина и кустарник с волчьими ягодами. Я подошёл ближе к болотцу. Посмотрел: нет ли клюквы на кочках. Клюквы не было. Болото было рядом с дорогой. Но обойти его я решил со стороны леса.
Приятно было вдыхать лесной, свежий, озоновый воздух. Лес молчал и увлекал своим безмолвным спокойствием. Я удалялся вглубь зарослей. Холмы и ложбины притупляли память о пройденном пути. Но я пока не думал о возвращении. Попадались канавы – следы противотанковых рвов. Как-никак в этом лесу проводились военные учения. Почва была песчаная и от яркого солнца на опушках выглядела почти белой. Песок и солнце напомнили мне о далёком юге, где оставалась моя любимая, незабвенная женщина. И теперь, где бы я ни оказывался, она постоянно в моём сердце и в моей памяти…
Я пошёл по еле видимой тропке. Почему-то не слышалось пения птиц, зато появился звон комаров. «Эти проклятые комары, – негодовал я. – Из-за них и постоять нельзя, сразу же пускают в ход свои ядовитые хоботы. А когда кусают комары, только о них и думаешь. Хотя, если обращать на них внимание, то нечего ходить в лес».
Я шёл дальше, размахивая палкой и озираясь по сторонам. Вот вспорхнула большая птица. Она отлетела немного в сторону и вновь опустилась. Я, было, отклонился в сторону к ней. Но птица исчезла. Показалась полянка. Среди травы пробивались синие колокольчики и мелкие аленькие цветы. Сорвал. Они оказались без запаха. «Близ болот вообще почему-то цветы не пахнут», – подумал я.
Слева за дорогой белела большая берёза. А на опушке – стояли две сосенки. Они выделялись своими розовыми стволами. Под ними бугрился муравейник. Сейчас он кипел своей муравьиной жизнью. Я присел и стал внимательно наблюдать за движением этих неутомимых насекомых. Сначала мне представился хаос. Муравьи вбегали и выбегали из нор, но, приглядевшись, я заметил, что они не мешают друг другу, не натыкаются и не сбиваются в кучу. Да это же подобие армии, где я сейчас служу. Людей много, как и муравьёв, а помех, собственно, никаких – организация и дисциплина всех расставляет по местам. Субординация тоже налицо. Выполз большой мураш – малые посторонились, как и в армии: показался офицер – солдаты вытянулись. Армия, в моём понятии, сколько бы я о ней не думал, она не воскрешает у меня положительных эмоций. Это противостояние офицеров и солдат, вызывающее постоянное нервное напряжение – изнуряет и тех, и других. «Неужели и вы – муравьи – разбиты на два лагеря, – думал я. – Неужели и вы в постоянном антогонистском напряжении? Но мы-то, солдаты, в повиновении лишь определённый срок, вы же – обречены на пожизненное рабство. И я не завидую вам». Мне стало жаль этих «рабов»: – У меня есть немного хлеба, я отдам его вам». И я стал крошить чёрный солдатский хлеб своим собратьям-муравьям. Они, словно по тревоге, бросились к крохам. А я всё крошил и крошил до тех пор, пока их движение не поуспокоилось.
«А может, у них голодный год, разруха, – вдруг озарило меня, – тогда я помогу им набить едой кладовые!» Я смочил в болотной влаге кусочек хлеба, вылепил из него нечто, похожее на памятник, и поставил в центре муравейника. «Кто знает, – фантазировал далее я, не забывая и о себе, любимом, – может, они будут слагать обо мне свои муровьиные легенды. Ведь мой хлеб – это и есть та «манна небесная», которую получили свыше некогда люди».
Две красивые сосенки, словно близняшки, возвышались по краям муравейника. Не знаю, почему мне пришли на память слова песенки, военных лет:
«Твоё имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне…» Может, потому, что сейчас проходили учения, благодаря которым я нахожусь в этом лесу, мне вдруг тоже захотелось что-то оставить здесь на память. Я вытащил из кармана перочинный нож и вырезал на деревьях два слова: Мир – на одной сосне и имя своей любимой женщины Раида – на другой. Мир да Любовь – не это ли и есть то самое главное, что ценно в жизни.
«Не обижайтесь на меня, сосенки, – молвил я. – Эти слова стоят того, чтобы оставить на вас свои следы».
…А сейчас мы лежим с Раидой на единственной в нашем номере кровати и непринуждённо болтаем:
– Я купила сегодня морковки, Юрч, – сообщила она.
– Ты обожаешь её? – осведомился я .
– Просто захотелось. Я её очистила и ждала тебя, и только сейчас вспомнила.
Я встал и, приподняв салфетку с тарелки, увидел сочную морковь.
– Сколько тебе дать, любимая?
– Дай одну и о себе не забудь.
Я надкусил свою красивую морковку, но она оказалась не сладкой.
– А у меня отличная морковка, хочешь, поделюсь? – предложила ты.
– Ты так интересно её ешь – с таким удовольствием хрустишь, что мне просто хочется любоваться на тебя.
– Юрч, не забывай, что нам пора спускаться вниз – нас ждёт твоя странная собеседница.
Я вскочил с кровати и, притянув к себе любимую, расцеловал её – смешную, жующую морковь, и поставил на ноги.
– Собираемся?
Переодевшись, мы спустились вниз в ресторан. Женщина уже сидела за нашим прежним столиком.
Странная женщина
При гостинице, где мы поселились, был ресторан, который назывался «Восточный». Для нас это было удобно: проживающим в гостинице можно появляться в спортивной одежде. Чем я и пользовался, будучи военным, не желающим себя афишировать. Туда мы с Раидой спускались обычно по субботам и воскресеньям. Частенько там появлялись и офицеры нашего полка. Особенным завсегдатаем ресторана был лейтенант Ломов. Он демонстративно изображал из себя сильно пьющего человека. Это нужно было ему, чтобы «вырваться» из армии. Ещё год назад он был старлеем, подающим надежды на дальнейший рост по службе. Но вдруг разочаровался в «милитаризме», и настойчиво стал «косить» от армии. А это было только за редким исключением возможно. Иногда люди по-настоящему «спивались», прежде чем вырваться на гражданскую свободу.
Мы сидели с Раидой за столиком и тихо беседовали «ни о чём», попивая: я – пиво, а она – светлое венгерское вино «Мил». Увидев какую-то сцену за одним из столов, я произнёс: «Это что-то похожее на «ремарковщину», правда, Раид?» И тут мы услышали от сидевшей за нашим столиком клиентки:
– А вам нравится Ремарк? – оживилась она.
– Кое в чём очень, но мне не хочется сейчас думать о нём, – отреагировал я…
Так началось знакомство с женщиной, которая стала нашей почти постоянной собеседницей. Ей, наверное, было около сорока лет, хотя выглядела она моложе. Чувствовалось, что ещё недавно восхищала мужской взгляд здоровой свежестью и правильностью линий. Она не была лишена некоторой полноты, но была ещё хороша собой. Резкость суждений, видно, недавно стало присуще ей. За этим скрывалась какая-то личная драма, до которой нам в данное время было ни к чему. Но так случилось, что она оказывалась почти всегда нашей собеседницей, хотя нам и самим было о чём поговорить и даже помолчать.
– Какие у Ремарка всё-таки замечательные герои, – настоятельно продолжила она.
– По-моему, не стоит о его героях так думать, – сказал я. – Ремарк с болью о них пишет, а мы, кажется, готовы им подражать и даже внешне копировать их жизнь.
– Ну, подражать не надо, а восхищаться стоит, – не уступала она.
– Чем восхищаться? Уж не тем ли, что его славные герои духовно опустошились от войны и разуверились в людях? Этим восхищаться нельзя. Над этим надо думать, – разошёлся я, хотя несколько минут назад мне не хотелось об этом вести разговор. – Ремарка я ценю за его любовь к женщине и за верность товариществу. В этом герои его великолепны и честны. Ещё для меня интересны его некоторые литературные приёмы, о которых неуместно сейчас говорить. Но преклоняться перед его героями? – Боже упаси! Это значит, сесть и плакать над их искалеченными судьбами. Верить в жизнь, так или иначе, надо – это вне сомнений. Без веры не может жить человек. Если её нет, надо её искать, – не унимался я.
– Где вы будете встречать Новый год? – неожиданно спросила женщина.
– Может быть, здесь в «Вечернем», да, Раида? – спросил я у любимой.
– Надо бы заказать столик, – ответила она.
– А может, и у себя в номере. Мы ещё не решили, – ответил я.
– Мне бы хотелось ещё с вами посидеть, – выразила своё желание женщина.
Мы чувствовали, что она оторвана от людей, ушла в себя и даже озлоблена. Она закурила и пригубила пива. Мы тоже подняли бокалы. Я отрезал кусочек мяса и поднёс ко рту любимой. Она немного смутилась, но не отказалась от моего участия. Я чувствовал, что ей приятно моё внимание. А также понял, что ей интересна и наша беседа с соседкой.
В следующую нашу встречу, женщина перевела почти весь разговор на себя.
– Иногда бывает настроение, – говорила она, распаляясь, – не только работать, смотреть на мир не хочется, а на службу – выходи. Меня это возмущает, всё равно с меня там толку в такой день не будет, зачем я должна сидеть и делать вид, что работаю? Я готова за этот день и зарплату не получать.
– О! Вы слишком индивидуальной свободы желаете. Такой свободы пока ещё нигде нет, – перебил её я. – Возьмите Запад – предприниматель вас мигом уволит, если вы будете работать «по настроению». Иногда бывает надо работать, не зависимо от того, хотим мы этого или нет.
– А я не хочу так! – воскликнула свободолюбивая женщина.
– Иногда бывает и несколько иначе, – попытался смягчить я её протестный пафос. – С утра вы не хотите работать, а к вечеру получаете уже удовольствие от неё.
– Так не бывает, – категорично заявила она.
– Тогда вы, наверное, лишены чувства долга и благодарности за то, что вам предоставлена возможность содержать себя и свою семью через труд, который оплачивается. Жить-то надо. Значит надо и работать, хотите вы этого или нет. Ведь жить-то вы хотите?
– Трудно сказать, хочу я жить или нет, – произнесла она исступлённо, тяжело навалившись на руки.
Мы засобирались в кинотеатр и до конца не выслушали отчаявшуюся женщину. Хотя чувствовали, что она была готова исповедаться перед нами.
В другой раз после наших обычных разговоров «ни о чём», сопровождаемых нежными объятьями, где-то ближе к вечеру Раида, как и раньше, напомнила мне, что пора спускаться вниз, где поджидает нас «странная женщина».
– Ну, знаешь, это никуда не годится. Моя самая «странная» и самая любимая женщина – это ты, – целуя жёнушку, ответствовал я.
Когда мы вошли в зал ресторана, женщина уже находилась на обычном месте.
– Вы слишком многому верите, молодой человек, – с ходу атаковала меня она.
– Не так уж во многое я верю, – парировал я.
– Любопытно, любопытно, – побуждала к разговору наша теперь уже «хроническая» собеседница.
– Я верю больше всего в надежду, именно она определяет суть жизни.
– Ну и надейтесь, – иронично подзадорила меня она.
– И «надеюсь». Впрочем, сейчас мне ничего и не остаётся.
– Почему «сейчас»?
– Я солдат, переодетый в гражданскую одежду. А солдат живёт или прошлым, или будущим. Я живу будущим.
– А в политику вы верите? – переметнулась в другую крайность она.
– Я пытаюсь разобраться в ней.
– Я тоже, – сказала женщина.
– Вообще-то, мне надо бы вникнуть в неё поглубже, и пошире, – рассудил я.
– Зачем вам вникать? Вы надейтесь. И всё получится. А я посмеюсь.
– Смейтесь. Это полезно.
– Начинаю, – проговорила она, пронзая меня, как показалось, не совсем добрым взглядом. И продолжила: – Догнали вы Америку за два-три года по мясу, молоку и маслу?
– У нас больше мяса, чем в Америке, – сказал я то, что знал.
– Больше? Да только едите вы его меньше. Я спрашиваю: на душу населения догнали вы Америку, молодой человек?
– Нет.
– То-то и оно, что нет. Только зачем вы говорили, что потребуется всего три года? Чтобы создать себе престиж? Иначе я всё это не воспринимаю. Зачем писать плакаты, поднимать весь этот бум?
– Ну что ж, – почему-то ответил я, будто сам принимал решение, – мы несколько переоценили свои силы.
– Да вы их вовсе не «оценяли». Вы просто решили отнять за два-три года всех коров у частников. Собственно, вы это и сделали, а потом… мясо поели, а коровок-то надо тоже кормить и кормить, прежде чем начинать их кушать. Разве это политика? – распалялась женщина.
– Бывают шероховатости, это правда, – пробубнил я вместо Хрущёва.
– А для чего вы стоите там, молодой человек?! – уже кричала женщина. – Ах, я и забыла, что вы находитесь там, чтобы своей слепой верой пьянить души несчастных тружеников.
– Да, – твёрдо сказал я женщине, дождавшись паузы, – вы отлично разбираетесь в политике. – А потом после паузы добавил, – и в экономике тоже.
Но на этом не завершились наши беседы с разъярённой женщиной. Состоялся ещё один наш последний разговор, который я по горячим следам зафиксировал в записной книжке. После него я понял, что жизнь за стенами казармы кипит вовсю, даже так, как мне и не снилось. А служить оставалось ещё два года. Привожу наш диалог почти дословно:
– Однажды я спрашиваю у сына: «Какую тему вы проходите, сынок?» Отвечает: «КПСС – оплот мира и демократии». «Не слушай, говорю, их, сынок». «Почему, мама?» «Что ты понимаешь в партиях, малыш?»
– Вы так и сказали ему? – усомнился я.
– Я открыла ему глаза.
– Позвольте, вы делаете это напрасно.
– Молодой человек!..– возмутилась она.
– Нет, я буду спорить с вами, – настаивал я. – И вы уж, пожалуйста, выслушайте меня. Учителя – это старшее поколение, и они обязаны прививать молодым то, во что сами верят. Они создали некий ореол счастливой жизни, и будут оправдывать его, как бы вы его не отрицали.
– А я не верю. Я тоже, то поколение, о котором вы говорите! И я говорю не только о себе.
– Чёрт побери, – возмутился я, – тогда вы должны благодарить школу хотя бы за то, что она даёт общее образование вашему сыну.
– Только это и удерживает меня, – согласилась она. – Но поверьте, эти «большие» пафосные идеи так затасканы, что невольно превратились в нудное жужжание. Да разве можно ничего не понимающего ребёнка так монотонно пичкать «идеями»? Я хочу, чтобы мой сын вырос независимым, и сам разобрался и понял, что надо человеку.
– Вы это говорите от того, что между школой и жизнью была большая пропасть, но ведь теперь этого нет?
– Нет ли?
– Скоро не будет. И ваш сын как раз попадёт под это «скоро».
…На этом наши беседы завершились. И я не знаю, что это была за женщина? Чем она занимается? Я просто понял, что наступили новые времена. И мы их все чувствуем.
…В новогодние дни, когда закончился карантин, и солдат стали отпускать в увольнения, наконец-то все мои, так сказать, «творческие друзья» смогли собраться в гостинице, где остановилась Раида. Они знакомились с ней. Она же, наслышанная до этого о каждом из них от меня, проявляла интерес к ним. Мы пили индийский чай, сухое вино и главное – отводили за разговорами душу.
Первым пришёл Валера Лебедев. Папка, которую он принёс, была забита его рисунками. Я попросил его заранее принести их, чтобы показать Раиде. После взаимного знакомства и некоторой паузы, я спросил у Лебедева, как он относится к Сёмину.
– К Мефодию? А что, умный парень.
– Да брось ты, – провоцировал на откровенность я.
Лебедев достал лист с рисунком:
– Вот, видишь, картинка? Это Сёмин дал мне тему. Мы объединились.
Картинка была политического содержания, она изображала Кубу, окружённую свирепым злым морем, символизирующим США. Куба символически представлена в виде уверенного мужчины, являющемся лучом солнца. На этом луче изображена ракета помощи Советского союза. Ветка пальмы – символ мира. Рисунок выполнен в современном плакатном стиле. Чувствуется ум и смелость задумки. На обороте приведена выдержка из заявления ТАСС и стихи Сёмина. Стихи, по словам Лебедева, были написаны экспромтом.
Лёгким на помине появился и Сёмин. Его я представил так: – Это Федя Сёмин, подпольная кличка Мефодий, он готовит себя в кагорту будущих писателей фантастического жанра. Он вообще очень любит фантастику.
– Приятно с вами познакомиться, – ответствовал Сёмин, – но ваш муж, кроме «Человека-амфибии» и «Неведимки», фантастику не очень жалует, поэтому и иронизирует. Он не хочет признать, что писатель-фантаст – это индикатор человеческого разума. Он мысленно представляет жизнь будущего, грядущего и даже больше – он должен идти впереди общепризнанных открытий. И чтобы стать таким писателем, мне надо ещё многому учиться…
Тут вмешался я:
– Ты что, хочешь сказать, что писатель-бытописец очень примитивен? Да чтобы отразить по-настоящему жизнь, прежде всего надо окунуться в многолюдье: слушать, изучать, записывать, спорить, вытягивать душу из каждого человека, знать многоликий характер жизни и уметь смотреть на неё разными глазами. И только после этого следует раскрывать намеченную фабулу. Которая также может быть не менее замысловата, чем фантастика, только тесно связана с реальностью.
– Кто же спорит, – умиротворённо произнёс Сёмин, – в любом произведении должны быть житейские фрагменты, с помощью которых раскрывается главная идея произведения. И у писателя-фантаста гораздо сложнее путь, чем у бытописца. Потому что, кроме познания быта, он обязан быть и научно подготовленным.
– Перед тем как идти к вам, – резко перевёл на другую тему от нашего обычного спора Сёмин, – я оказался свидетелем сценки. Два солдата в казарме репетировали песню «Хотят ли русские войны». Так получилось, что песню подхватили остальные солдаты, занимались они кто чем – подшивали воротнички, перебирали в тумбочке свои скромные пожитки – было свободное время. Тихонько пели все, в том числе и я. Слова-то у песни примитивные, но бьют в точку. Поэзии никакой, но отражение жизни – колоссальное. К тому же, созвучное нашему настроению. Находиться в казармах три года в ожидании «войны», чтобы потом из человека превратиться в биоматериал – это непостижимое недоразумение человеческих деяний.
– Это ты так оценил Евтушенко? Говоришь, «поэзии никакой», – прервал его тираду вошедший Эдвард Коротков, который был поклонником поэта. – А как ты относишься к Вознесенскому? Мне, например, понравились строки:

