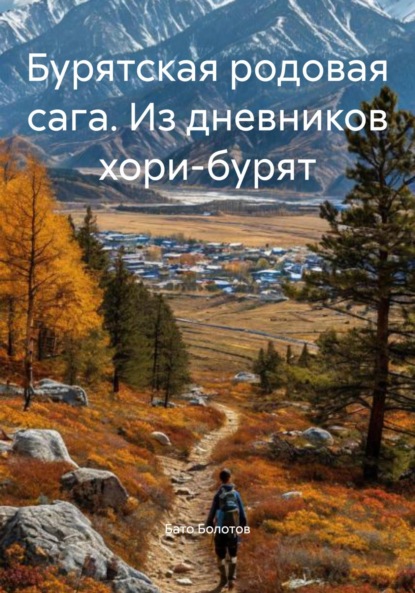
Полная версия:
Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят
И ткнул пальцем в сторону бурлящей толпы, похожей на вулканическую лаву, плавно и уверенно текущей по широкой, метров в двадцать шириной, «зебре».
Там, в створе Невского, люди словно испарялись, превращаясь в миражи. А перед моим взором возникали все новые и новые спины, из-за которых выныривали идущие навстречу мне пешеходы и они надвигались, потом уходили мимо и прочь, словно меня и вовсе нет. В жизни, конечно, бывают несовпадающие и непересекающиеся вещи, которые находятся в одном и том же месте, в одно и то же время. Но эта толпа из отдельных личностей, индивидуумов, на моих глазах превращалась в единый организм, движимый непостижимой и непредсказуемой силой, и двигалась в направлении широченной, на мой взгляд, улицы, а из ее чрева шла, приближаясь, надвигаясь на меня, толпа, которая плавно обтекала мое место и исчезала где-то за моей спиной.
Тем временем заметил, как мой собеседник, свернув телескопический спиннинг, неторопливо оглядывал меня. Мне понравилось удилище, но не до него сейчас. Наверное, вид у меня действительно был испуганный, растерянный.
– Невский проспект – это как Арбат для москвичей, это как Елисейские поля для парижан, – сказал мой новый знакомый, беря под руки и подталкивая вперед, туда, на Невский.
Меня поразило, как незнакомец, бросив любимое рыбацкое занятие, пошел показывать Невский незнакомцу.
– Это парадная, главная улица нашего города, которая тянется от Адмиралтейства и до площади Восстания, – продолжил мой путник, не переставая подталкивать меня под локоть, мол, иди, иди вперед.
– Многие думают, главный проспект города назван Невским в честь главной реки – Невы. На самом деле – в честь Невского монастыря, Александро-Невской лавры. К лавре проспект и приводит, если долго, почти час, идти по нему от Адмиралтейства, где мы сейчас и находимся. Александро-Невская лавра носит имя святого князя Александра Невского. А он получил почётное прозвище «Невский» за победу над шведами на реке Неве. Так что названия главного проспекта и главной реки Петербурга всё равно связаны.
Я начал припоминать факты об Александре Невском из уроков по истории. Тут же понял, мало что знаю, кроме битвы на Чудском озере, и был обескуражен. Так хотелось сказать этому доброму и хорошему человеку хотя бы несколько слов, подтверждающих мои познания в отечественной истории применительно к невским ристалищам этого русского полководца.
– Невский проспект был первой платной дорогой Петербурга. За проезд до Невского монастыря с телеги брали пять копеек, а с кареты побольше – десять копеек. Вместо денег можно было заплатить булыжными камнями, которыми мостили улицу… Так и строился Невский проспект.
Я прикинул, это были не малые деньги, если быка до революции, как рассказывал отец, можно было купить за три рубля. Только сейчас вгляделся в своего нового знакомца. Одет просто, серый пиджак и рубашка в клеточку, не новые, но хорошо отглаженные брюки. А вот туфли, довольно старые, были начищены до блеска, и выглядели как новенькие, лакированные. Подумал, он похож на учителя. Мой спутник заметил, что осматриваю его.
– Вот, вышел порыбалить, но сегодня, видимо, уха накрылась, – мужчина как бы оправдывался.
– Разве в Неве рыбачат?!
– Еще как! Зимой хорошо ловится корюшка, любимое блюдо петербуржцев, а весной корюшка идет на нерест, за полчаса штук двадцать-тридцать поймаешь, вот и обед готов. Корюшку я ловлю обычно у Петропавловской крепости и у Заячьего острова, – он большим пальцем поверх плеча показал куда-то взад, в сторону громоздящихся старинных зданий. Я кивнул головой, поддакивая, мол, понял.
– А сейчас, летом, в Неве можно поймать ерша, леща, плотву…
Он посмотрел на меня, интересны ли мне такие подробности.
– Да, я тоже люблю рыбалить, там, в Забайкалье… У нас реки Ингода и Тура, может слышали?
– Нет, не знаю, к сожалению. Наверное, красивые места. Это же Забайкалье?
– Да, Забайкалье. Еще Чехов…
– Знаю эти высказывания Антона Палыча и уже завидую, что приехали из такого замечательного края…
– Завидуете мне?! – я был в недоумении.
– Да, мне хотелось бы побывать в Забайкалье.
– Да-а, у нас красиво! – только и мог сказать.
Мы продолжили путешествие по Невскому, я то и дело закидывал голову наверх, глазел то вправо, то влево, натыкался о плечи людей, извинялся, а мой «гид» все подталкивал меня вперед и вперед.
– А вот на это архитектурное и культурное чудо стоит посмотреть особенно внимательно – на Невском проспекте стоит кафедральный, то есть главный, православный собор Петербурга. Теперь это музей атеизма и религии, ять возьми, – в голосе этого, наверное, коренного, питерца я почувствовал нотки скепсиса или язвительности.
– Вот, смотрите, красоту эту… Нисколько не стесняясь прохожих, мой новый товарищ помог мне взобраться на краешек скамьи, чтобы быть повыше и разглядеть храм лучше.
– Ничего, ничего, взбирайся на скамью. В девятьсот пятом году эти скамьи служили баррикадами для революционеров. Так что они крепкие…
– И что, до сих пор целы?!
– Да! В царской России делали мастеровые люди – на века! – Собор был построен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Так получилось, открыли собор в честь победы России над французами, когда Русская армия во главе с Кутузовым победила Наполеона. Французские знамёна и ключи от городов, взятых русскими войсками, выставлены в Казанском соборе. Здесь же похоронен сам Кутузов, а перед собором поставлены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Так Казанский собор стал символом русской победы! – словно гид, без запинки, рассказывал мой товарищ.
– Ляпота! – громко воскликнул я. – Ведь так говорят французы!
Мой товарищ слегка ухмыльнулся.
– Красота по-французски звучит так: «la beauté», а если нужно выразить свое чувство о чем-либо впечатляющем, ну, как в нашем случае, можно сказать вот так: «magnifique».
Я покраснел.
– А слово «лепота» переводится с сербского на русский действительно как «красота».
Люди то и дело бросали на меня взгляды, порой укоризненные, не одобрительные и я спрыгнул со скамейки.
– Обязательно зайдите в собор – внутри он ещё красивее, чем снаружи. А сейчас видите величественную колоннаду перед собором, здесь девяноста шесть колонн. Такую же колоннаду планировали построить с другой стороны собора. Но не хватило денег…
– Вы, наверное, архитектор? – поинтересовался я.
– Нет. Тружусь слесарем-сантехником в Эрмитаже. Кстати, поговаривают, половина питерцев мечтает работать в Эрмитаже… Да, забыл представиться, меня зовут Владимир, – он щегольски щелкнул каблуками, галантно наклонился, заложив одну руку за спину, а другую удерживал у браво выгнутой груди.
– Слесарем-сантехником?!
Владимир слегка улыбнулся, видимо, в моем возгласе было столько эмоционального удивления, что он решил слегка отретушировать мое понимание о профессиях.
– Так-то я лингвист, закончил университет, филфак, я специалист по славянским языкам.
Тут, словно извиняясь, я подал ему руку.
– Простите, Володя, я и не представился. Меня зовут Ринчин. Хочу поступить в университет, на журфак.
– Вы что, стихи сочиняете?
– Нет, хочу получить образование, чтобы испытать себя на поприще корреспондента крупной газеты.
– Понятно, коллективный пропагандист…
Мне показалось, что слово «пропагандист» Владимир произнес с некоторым сарказмом, иронией. И тут он перешел на «ты», словно указывая на то, что мы уже хорошо знакомые люди, ни к чему фамильярности.
– Ринчин, ты, наверное, покушать хотел бы?
– Да, не прочь…
– Тут есть «Гастрит», может, там покушаем?
– Не против. А почему «Гастрит», слово какое-то… не аппетитное…
– Перед войной еще, наши большевики вознамерились соединить русский размах и американскую деловитость. И здесь, на Невском, открыли общепитовскую богадельню, поставили кафе-автоматы. Бросишь монетки, получишь бутерброд с сыром. А недавно это вместительное помещение переоборудовали в обыкновенную забегаловку-столовку, сегодня здесь подают вполне приемлемую пищу по невысоким ценам.
Пока Владимир рассказывал историю «Гастрита», мы уже перешли на другую сторону Невского, зашли в столовую. Не прошло и десяти минут, как мы уже обедали солянкой с лимончиком, сосисками с тушеной капустой, запивая какао непонятного цвета.
Мой попутчик, видимо, заметил мой тоскливый взгляд на эти блюда, поэтому сказал:
– Извини, портвейн тут не в почете, а под столиком разливать – запрещено. Да совсем скоро, если станешь студентом, будешь здесь утолять студенческий голод…
Пока мы ели, Владимир рассказал, что неподалеку, на углу Литейного, Владимирского и Невского есть место, которое называют «точка». Там настоящая агломерация разнообразных для городской молодежи заведений, где они встречаются, чтобы поболтать, «шлепнуть, или забалдынить, по чуть-чуть». Заведение это называется «Сайгон», к нему «присосалось» кафе-мороженица, а немного дальше по Владимирской есть буйный бар «Жигули». Здесь же по диагонали друг от друга расположились два гастронома, где отовариваются местные тусовщики, именуемые себя «франтами Бродского и Барышникова», а на самом деле обыкновенные алкаши, пьющие «Солнцедар» или чернильного цвета портвейн «Узбекистон».
А для туристов, в особенности из Финляндии, да богатых командированных на Невском есть рестораны «Москва», «Невский», «Универсаль» и «Волхов».
Видимо, я был настолько голоден, что решил повторить солянку с лимончиком, сосиски с тушеной капустой.
Володя лишь улыбнулся: «Ни один рот без капусты не живет».
– Я в детстве капусту терпеть не мог, а в армии приучился, голод не тетка, – припомнил я. – Был у нас мичман Шенец, так он говаривал «Без капусты животы пусты».
Мы рассмеялись, найдя общую тему про дела житейские.
– А когда я служил, был министр обороны Гречко, так нас каждый день гречкой кормили… Мы расхохотались.
– Кстати, дам тебе некоторые советы. Мне кажется, ты поступишь на свой журфак. Но с учебой особо не заморачивайся, главное без трояков сдавай экзамены, чтобы получать стипешку. Тебе нужно чаще бывать в Эрмитаже. Но не ходи с экскурсией. А выбери одну-две картины, сядь и смотри, двадцать-тридцать минут. Например, картину «Портрет дамы в голубом» Томаса… извини, запамятовал правильное произношение фамилии, кажется Гейборо, или Гейсборо. Сам художник не любил писать портреты, но был вынужден, так как жил бедно, частными заказами зарабатывал деньги на содержание семьи. Но удивительно, прославился-то он благодаря портретам. Ты сиди и вглядывайся в картину, и увидишь идеал утонченной красоты женщины, ее изящную естественность. И поймешь, какова она настоящая женская красота!
Владимир задумчиво улыбнулся.
– Или садись напротив картины Леонардо до Винчи «Мадонна Литта». Картина-то небольшая, но через пять-семь минут созерцания начинаешь чувствовать, ты уже там, в конце пятнадцатого века, видишь грустные, в слезинках, глаза младенца и нежнейший взор матери, устремленный на своего младенца. Ты всматривайся в картину, вдруг увидишь, оказывается, вырез в платье для кормления был зашит, но мать разорвала нитки и кормит ребенка. Представляешь, Ринчин! Мать желала отбить ребенка от груди, а мальчик, видимо, плакал и она пожалела его… И увидишь величайшую любовь матери к ребенку.
Кстати, Леонардо написал всего лишь девятнадцать картин, и две из них есть в нашем Эрмитаже. А еще познаешь творчество Матиаса, Рембрандта, Поль Гогена… Эти имена тебе сегодня неизвестны, а через два-три года не узнаешь самого себя, твоя душа наполнится таким кладезем знаний, эмоций, восхитительным полетом вечной красоты. Даже в тундре ты будешь ощущать себя крупицей Вселенной…
Я расхохотался.
Но Владимир вновь остановил меня укоризненным взглядом. На столе так и стояла тарелочка с рисунками ромашки и недоеденной, остывшей капустой, а я, молча, внимал словам моего нового знакомого Владимира. Как хорошо, что я встретил его в первые минуты знакомства с Питером!
– И вот представь, сидишь, эдак лет через двадцать в своем Забайкалье у стола, что-то пишешь для своей газетенки, и вдруг вспомнишь картину Томаса, словно видишь ее наяву. И буквально до последнего мазка знаешь эту гениальную картину, эти необыкновенно притягательные глазки дамы, ее полуоткрытый, вожделенный ротик, дивную шею с крестиком на бархатной подвеске, слегка оголенные плечики… И вспомнишь именно эту картину, а не лекцию о пропагандисте Ленине… Ты даже представить себе не можешь, но через…, ну, двести лет, забудут о Ленине, а картина Томаса будет вновь и вновь вдохновлять новые и новые поколения людей и каждый увидит в этой картине что-то свое, особенное, удивительное и неповторимое. Ведь мир забыл уже и о великой французской революции, и об Отечественной войне восемьсот двенадцатого года, канули в лету и первая и вторая мировые войны, а люди вновь и вновь толпами собираются и у «Мадонны Литта», и у «Портрета дамы в голубом». Вот что такое Эрмитаж!
Владимир отпил остывший какао.
– Отвратительный напиток, – поморщился он.
– Посмотри еще «Возвращение блудного сына» Рембрандта… Впрочем, изучи хорошо двадцать-тридцать картин и тебе этого сказочного волшебства хватит на всю жизнь. Я почти каждый день вижу эти картины, но знаю хорошо лишь полсотни. А еще, Ринчин, изучай питерскую архитектуру, она похожа на Париж, много ассоциаций: Пантеон – Исаакиевский Собор, Вандомская колонна – Александрийский столп, Версаль – Петродворец. Только Питер более холодный и строгий, а Париж – солнечный, в песочных тонах. А кто-то говорит, что Питер по архитектуре немного похож на Милан и Рим – такие же дома с гранитными фасадами, вымощенные мостовые, набережные и тихие заводи с крохотными мостиками, у нас таких пейзажей множество.... А в принципе, говорят, Петр Первый, начав строить Питер, мечтал, что он будет похож на Амстердам…
Своими познаниями о своем родном городе Владимир меня поражал и восхищал.
– Недалеко отсюда находится наш знаменитый «Сайгон». Рядом с входом всегда прогуливаются представители андеграунда.
– Чего-чего?!
– Андеграунда! Это – бородатые, сильно пьющие интеллигенты Невского. Основная масса таких праздно шатающихся людей, представители так называемой хипповской «системы»: хайрастые и с фенечками.
– А-а! Понял! Хиппи, значит! – успокоился я.
– Ну, слово это переводится приблизительно, как подполье. Они противопоставляют себя массовому искусству, массовой культуре. Часто они ждут концерта в рок-клубе и обязательно пойдут надоедать своему кумиру, аквариумщику Борису Гребенщикову. Настоящая питерская интеллигенция, не говоря уже о рабочих, относятся к хиппи с большим раздражением, потому что те не работают, все время ищут вписку и сидят на «аскето», то есть просят милостыню. Хиппи у нас в Питере пока не так уж и много, их главное «лежбище» в садике на углу Стремянной и Дмитровского переулка. Но что-то мне подсказывает, они будут размножаться как кролики.
Это сравнение позабавило меня, наверное, вид был у меня, довольно-таки интересный, понимающий. Владимир улыбнулся и спросил: «Что-то не так?»
– Про кроликов…, я знаю, как они размножаются…
– Ринчин, давай, не будем зооветеринарные подробности…
– Да, конечно, – мне стало не по себе. Нужно думать, прежде чем что-либо сказать, смекнул, с опозданием.
– Что посоветовать еще? Обязательно посмотри хореографические миниатюры Леонида Якобсона. Три года назад Москва разрешила питерцам организовать экспериментальную балетную группу во главе с Якобсоном, теперь они гастролируют по всему миру, успех офигенный. Такие постановки, как «Роден», «Русские миниатюры» в сравнении с классическим балетом коротки, как молния в ночи, безумно оригинальны, поэтому зритель приходит в восторг, в экстаз. Также рекомендую на годы учебы стать поклонником таких театров, как БэДэТэ Товстоногова, Кировский, покупай дешевые студенческие абонементы на вечера классической музыки, начнешь разбираться в музыке, понимать её. Для музыки не нужны переводчики, весь мир понимает. Словом, помни, учеба учебой, а культурное самообразование все-таки важнее…
Владимир не договорил. К нему подбежал бородатый мужчина. В очках из солидной, роговой оправы, под цвет бороды, рыжеватые со светло-коричневыми оттенками. Одет был оригинально, показалось, по-пижонски – светло-коричневый пиджак в клеточку со светло-синими полосками, почти такая же клетчатая рубашка и яркий, темно-синий, с позолочеными завитушками галстук, в нагрудном кармане пиджака – платочек, окаймленный под золото. Несуразно, на мой взгляд, выглядели на нем потрепанные джинсовые брюки, штанины внизу, у туфель, распущены в ниточки, а может, пришиты другие, образовывая темно-синюю бахрому. Приглянулись туфли – на толстенной подошве. А цвет неопределенный такой, не черный, а темный, с зеленовато-коричневатыми вкраплениями – цветные.
– Володь, есть тема, завязывай со всеми делами, срочно! Пришла барыга, прямиком с океана, нужно выкупать у боцмана вещи, срочно, срочно! Еле нашел тебя! Полгорода оббегал, чуть с ума не сошел!
Мужик тараторил, не обращая на меня никакого внимания.
Владимиру пришлось встать под его напором, мне показалось, он вмиг забыл обо мне, увидев питерского друга, а на прощание коротко бросил: «Ринчин! Есть гостиница на Черной речке, там места найдутся! Больше негде тебе заночевать».
И Владимир ушел, не оставив даже адреса, где можно его найти.
Впоследствии был десятки раз в Эрмитаже, ни разу его не встретил, да и как найти его, ведь там трудится более двух тысяч человек…»
Оторвался от чтения с трудом. Эти странички с рассказом о первом дне в Питере были отпечатаны на печатной машинке давным-давно, потому что такую, глинистого цвета бумагу, выпускали в семидесятые-восьмидесятые, позже газетная бумага пошла лучшего качества.
Ринчин на них в разное время разными чернилами делал поправки, некоторые строки вычеркивал, надписывал над ними от руки новые мысли и факты. Эти странички были скреплены большой, свинцового цвета, скрепкой, они очень надежны, упруги и могут служить, наверное, вечно. Таких скрепок уже нет, новые, никелированные, не ржавеют, их вид привлекателен, но они быстро теряют пружинистость, как и цветные, пластмассовые.
Следующая стопка страниц была скреплена степлером, значит, исписаны недавно. Просмотрев флешку, увидел, есть электронный вариант этих записей.
Вот они.
«Перед началом занятий повезли «на картошку» в Выборгский район. Ленинград окружен клубневыми плантациями второго хлеба – Бугры, Парголово, Шушары, совхоз «Ручьи» знакомы советским первокурсникам.
Но нас закинули подальше, на бывшие финские владения.
Место, куда нас привезли, до 1948 года называлась деревней Кяхари, финская деревня Выборгской губернии Финляндии.
Это интересно, недалеко от этих мест «гнил» когда-то и мой дядя Этигил, дневники которого много раз читал в отрочестве.
Пошел в магазин за сигаретами и познакомился с дедушкой, сидящим на крылечке. Он учитель деревенской школы, поэтому и рассказал историю своих мест.
Бытовые условия могли быть и лучше, но хоть крыша над головой надежная, из шифера, прорублены продолговатые оконца в дощатом, неотапливаемом бараке. Вместо кроватей сплошной настил из досок, на которых мы обустроились, положив матрацы с тоненькими одеяльцами и стираными-перестиранными простынями, пододеяльниками, наволочками. Все удобства, конечно, на улице – дощатый туалет и «армейские» умывальники с ледяной по утрам водой. Как в армии. Для меня это не в новинку, а вот для городских, заметил, туалет на улице доставлял определенные неудобства.
Расписание и дисциплина от флотских далеки: неторопливый, даже ленивый, подъем, скудный завтрак, никаких построений и планерок – собрались толпой и в поле. А там уже распределялись самостоятельно, кому и где работать, выбирая рядки с картофельной ботвой, длиной, наверное, с километр.
После обеда, состоявшего из щей, картошки с тушенкой, хотелось спать.
Меню не отличалось оригинальностью – картошка и тушенка, щи, гороховый суп, в котором намного больше картошки, чем всего остального, черный чай с двумя кусочками рафинада, а по утрам каша – то гречка, или рис, иногда манка, с непроварившимися, сухими комочками. У нас не было ни лопат, ни вил, впереди шел картофелеуборочный комбайн, нет, не комбайн, а рыхлитель, прицепленный к колесному трактору.
Рыхлитель вгрызается в землю специальными ножами и при движении вырывает клубни вместе с ботвой на поверхность. А мы идем следом, с уны- лым видом собирая картошку в мешки. Наполненные мешки оставляем на борозде. Иногда этот так называемый комбайн останавливался, что-то ломалось, мы ложились на теплую, взрыхленную и потому мягкую землю. Болтали с девчонками, знакомились. Симпатичность наших будущих однокурсниц не уродовалась даже телогрейками и сапогами, выданными из колхозного склада.
Потом солнечные дни, как-то вдруг и неожиданно, сменились дождливыми, работа стала в тягость. Нас, юношей, на журфаке почему-то подавляющее меньшинство, хотя я всегда до поступления в универ считал, журналистика – мужская профессия.
Девчонки на корточках ползали по полю, наполняя мешки, а мы грузили их в тракторные тележки. Мне казалось, нам досталась более легкая работа, ведь мы собирали мешки, быстро грузили в тележку, наполняли ее минут за двадцать. Жаль девчонок, они почти ползли по мокрому полю и собирали грязные клубни. Хотелось хоть как-то помочь им.
Но натыкался на суровые взгляды ребят, мол, куда лезешь, так и всех нас, грузчиков, заставят копаться в этих картофельных плантациях. Слово «грузчик» звучало почти как «интеллигент».
Когда картофельная эпопея закончилась, радовались, как дети. С первого октября приступили к занятиям, заселили в общежитие в студенческом городке на Московском проспекте. Занятия не впечатляли, нудное заучивание немецких слов и грамматических правил, две пары ежедневно, а также лекции и семинары по «марлену» – марксистско-ленинскому учению о печати, введение в языкознание, а также теория и практика орфографии и морфологии по русскому языку.
Я был в шоке. Перца добавил куратор группы, однажды сказавший: «Писать не научим, но дадим объем знаний, необходимый в жизни…», и этим поверг в уныние.
Наверное, три четверти знаний, которые давали первокурсникам, мне ни к черту не нужны.
Сразу захотелось перевестись на другой факультет, но понятия не имел, на какой?!
Впрочем, лики уныния продлились не долго. Сдружился с группой, с курсом, вместе с ними было интересно и весело.
Студенческая жизнь захватила, подмяла и помчала, куда, не знаю и сам. Отдушиной на этом фоне стали лекции по русской и зарубежной литературе, истории российской журналистики, истории античной литературы. Я с упоением слушал лекции по древнегреческой мифологии, героическому эпосу того времени и драматургии Софокла и Эврипида.
Наш однокурсник Жуков нашел первую «подработку» – в Ленинграде, на Васильевском острове, на улице профессора Попова, был Всесоюзный центр по гриппу и острым респираторным заболеваниям. Здесь клинически, на волонтёрах-пациентах, изучали действие противогриппозных препаратов. В Центр приглашались студенты для волонтерства. Риска для здоровья практически никакого, зато платили деньги, будь здоров – почти три стипендии за три недели. При этом выдавали месячные проездные билеты на все виды транспорта, бесплатно кормили три недели, а на время лечения – на четыре дня – выписывали медицинскую справку-освобождение от занятий.
Вводили в организм вирус какого-нибудь, например, гонконгского гриппа, температура поднималась до 38,5—39 градусов. Тогда врачи начинали лечить нас, студентиков, новыми противогриппозными препаратами.
Естественно, мы за два-три дня выздоравливали, и, как ни в чём не бывало, продолжали учиться. А врачи с тем же прилежанием по утрам и вечерам измеряли температуру, брали анализы до завершения срока эксперимента.
У меня есть, а теперь уже был, замечательный однокурсник Володька Жуков из Адлера. Третьим в нашей комнате жил араб с Ближнего Востока. Мы вознамерились создать образцово-показательную комнату – почти каждый вечер убирались, мыли полы, протирали пыль, нарисовали большой плакат, где Жуков, в образе грозного красногвардейца, указательным пальцем показывает на тебя и говорит: «А ты дал закурить члену нашей комнаты?!».
Еще придумали прикольную, на наш взгляд, шутку. После уборки дежурный по комнате должен был спрашивать: «Ну, господа, что еще сделать?!»
В тот злополучный вечер дежурил Санчес Пионль Пандора. Ребята же прозвали его Саней Бандера. Когда он прибрался и с ведром ушел в туалет, чтобы вылить грязную воду, к нам в комнату ввалились инспектирующие из райкома, да студкома комсомола.
Им понравилось оформление комнаты – оригинально и уютно. А тут входит Саня Бандера и, смотря на Володьку Жукова, с большим акцентом, говорит: «Мой господин, в комнате прибрался, что прикажете делать дальше?! Рапортовал Саня Бандера!»



