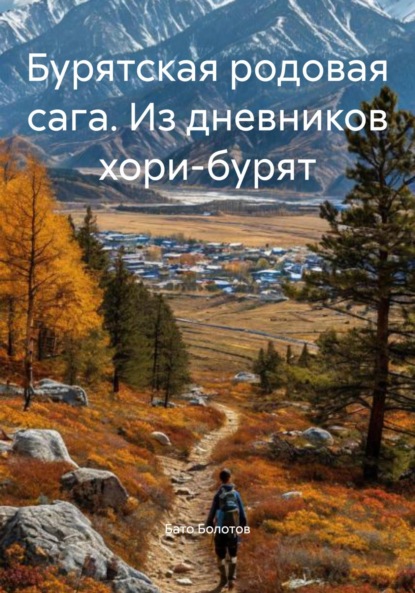
Полная версия:
Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят
Комсомольские начальники не были, конечно, в восторге…
Через три дня висел приказ ректора об отчислении Володьки за аморальное поведение, позорящее честь и достоинство советского студента.
Мне было неимоверно горестно, что все так получилось, но начинались первые экзамены.
Я не слишком-то усердствовал в учебе, часто пропускал лекции, даже семинарские занятия, потому что по совету слесаря-сантехника Владимира вовсю штурмовал Эрмитаж, знакомился с архитектурой Ленинграда, смотрел спектакли в БэДэТэ, часто бывал в Кировском…
Так что пришлось проявить немало изворотливости, чтобы сдать первую зимнюю сессию. Например, по античной литературе. Преподавательница – пожилая, с изысканными манерами женщина, истинная петербурженка. Речь ее – сплошная поэзия, слушаешь, как музыку, но ничего не запоминаешь, смотришь на нее, словно на сценки из сюрреалистического фильма. Картинки-сценки помнишь, а сути – нет. Она, казалось, никого не пыталась перевоспитать, переделать, просто хотела, чтобы студенты, в особенности, будущие журналюги, хотя бы немножечко разбирались в древнеримской литературе и мифологии. Она принимала студентиков-первокурсников такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками.
– Ну-с, уважаемый Батадаев, давайте, послушаем, как Вы понимаете классическую эпоху расцвета литературы?
– Космогонические представления греков принципиально не отличались от представлений многих других народов. Считалось, изначально существовали Хаос, Земля (Гея), подземный мир (Тартар) и Эрос – жизненное начало. Гея породила Уран, от Урана и Геи родилось второе поколение богов – титаны… От брака Зевса и Геры родились Геба – богиня юности, Арес – бог войны, Гефест, олицетворявший вулканический огонь, скрытый в недрах земли…
– Да, товарищ Батадаев, у меня такое ощущение, что у Вас довольно оригинальное представление о древнеримской литературе…
– Да, оригинальное, – вторил профессорше. Вдруг взбодрился, вспомнив, как со словаком-однокурсником Йозефом шутя, ради хохмы, авось, где пригодится, выучил наизусть какие-то латинские фразы.
– Príncipiúm cujus hínc nobís exórdia súmet, Núllam r(em) e niló gigní divínitus únquam, – вдохновенно продекламировал я на латыни.
Заметил, как зашушукались за спиной девчонки-одногруппницы. —
Так, так, та-ак, – в недоумении или с долей растерянности протянула профессор.
– Это значит, изгнать этот страх из души, чтобы потемки рассеялись, – старался я перевести с латыни на русский свой монолог.
– Но рассеять должны не солнца лучи и не света сиянье дневного, а знания… Наверное…
– Это Вы Пиндара процитировали?! – вопрошала профессор.
Я уже и не помнил никакого Пиндара. Но не молчать же, в конце-то концов.
– Потом пошел процесс упадка литературы и расцвета драматургии… Сюжетами для пьес служили сцены из жизни Божеств… И был еще хор, сопровождавший все драматическое действо… Такое сегодня и представить сложно…
– Это вы правильно подметили…
– В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллергия…
– Наверное, аллегория?..
– Ах, да, конечно же, аллегория. Это я от волнения…
– Да, чувствуется…
Профессор молча, неторопливо заполняла графу в зачетной книжке. Даже расписалась. Оставалось лишь поставить оценку.
– А за латынь Вам спасибо…
– Да, вот еще особенность… В отличие от современного театра в Греции не было постоянных трупп, да и профессиональные актеры появились не сразу. Первоначально играли, пели и танцевали сами граждане.
Профессор жирно написала «Хорошо» и подала зачетку.
– Благодарствую… с, – запинающимся языком пролепетал я и вышел из аудитории, кланяясь профессору, как ламе. Профессор улыбалась. Мне показалось, она жалела меня.
На экзамен по немецкому языку нужно было подготовить перевод газетной статьи, не менее ста тысяч знаков. Для студента, практически не знающего язык, это фантастически тяжелый труд.
«Что же делать?», – думал я. И пошел в публичную библиотеку на Невском. Пожилая библиотекарь встретила меня с интересом.
– Ну-с, где молодой человек работает или учится?
Она посмотрела студенческий билет и воскликнула: «У нас в старые времена бытовал анекдот: «Питерская публичка – братская могила ЛГУ», то есть вашего университета.
– Да, я в курсях, – небрежно бросил, хотя понятия не имел, откуда и почему пошел гулять по Питеру этот анекдот.
– Видите ли, уважаемая, мне нужна такая книга… или журнал… на немецком языке…
Библиотекарь слушала, внимательно рассматривая меня.
– Так вот… Чтобы там рядом присутствовали тексты на немецком и русском языках… Ну, чтобы не тратить время на перевод…
– Помочь могу, а каким должен быть текст, какой направленности?
– Политической, наверное, как в газете «Neues Deutschland»…
– У нас в основном научные статьи, философские… Хотя, подождите, что-то припоминаю… В архивах сохранилась одна интересная книжка… Статьи о революционерах, кажется, о Либкнехте, о Кларе Цеткин, Розе Люксембург, с переводом на русский язык…
Она набрала номер телефона, сказав: «Узнаю у каталогизатора, или у библиографа…»
Минут через тридцать принесли старую, потрепанную, видимо, уже реставрированную книгу довоенного издания «Рот-Фронт». «Странно, – подумал, – кажется, есть конфеты рот-фронтовские, а тут издательство».
На третьей странице прочел: «Карл Либкнехт (1871—1919), сын Вильгельма Либкнехта, был страстным агитатором. Силой своего глубокого убеждения и пламенным красноречием он пробуждал в массах волю к борьбе. Карл Либкнехт был одним из первых германских социал-демократов, открыто выступивших против империализма и опасности империалистической войны. Он был организатором международного юношеского движения…»
И тут же, на правой половине страницы увидел текст на немецком: «Karl Liebknecht (1871—1919), der Sohn von Wilhelm Liebknecht war ein Rührwerk. Kraft seiner tiefen Überzeugung und eine feurige Beredsamkeit er die Massen geweckt wird, um zu kämpfen. Karl Liebknecht war einer der ersten deutschen Sozialdemokrat, sprach offen gegen den Imperialismus und die Gefahr eines imperialistischen Krieges. "Er war ein Organisator der internationalen Jugendbewegung».
Я был на седьмом небе от радости.
– А можно взять книгу на сутки?
– Нет, работать с таким изданием разрешается только в читальном зале, – вежливо ответила библиотекарь.
– Хорошо, оставьте, пожалуйста, на сутки, завтра подойду…
На следующий день взял книгу, сфотографировал нужные страницы и отпечатал фотографии. Затем купил общую тетрадь формата А-4, страницы поделил пополам и начал старательно писать… Через сутки подготовил текст на сто тысяч слов с переводом, значит, готов к экзамену. Экзамен принимала Наталья Константиновна, молодая, симпатичная девушка, наверное, старше меня лишь на год-другой, зато уже дипломированный специалист, преподаватель университета.
Присев к столу, напротив преподавателя, стараясь быть спокойным, медленно сказал: «Deutsch – ziemlich logische und klare Sprache, können Sie alles nach den halbpunkten auszulegen. Liebe ihn mit jedem Tag stärker…»
Выучил эту фразу на всякий случай, помогал в этом словацкий друг Йозеф. Фраза переводилась так: «Немецкий – довольно логичный и четкий язык, все можно разложить по полочкам. Люблю его сильнее с каждым днем».
Наталья Константиновна широко улыбнулась, знала, мне очень трудно дается немецкий, с первых семинарских занятий поняла: у студента нет абсолютно никакой базы – ни грамматической основы, ни словарного запаса, произношение можно сравнить, видимо, со стрекотом пулемета. И такой сюрприз. От удивления и радости она только и произнесла:
– Да ладно… Ой… Ja okay…
– Наталья Константиновна, я сделал перевод, сто тысяч знаков. Но перевел научную статью о жизни и деятельности немецкого революционера Карла Либкнехта. Газета «Новости Германии» меня не вдохновила, а вот перевести текст…
Наталья Константиновна перелистывала страницы тетради, останавливала свой прекрасный взор в некоторых местах и приговаривала: «Ja okay… Ja okay…»
– Ну, что ж, в виде исключения приму этот перевод. Но в будущем попрошу все-таки переводить на русский язык текст из газеты…
Ринча понял: Наталья Константиновна прекрасно поняла подвох, но пожалела меня. Она заговорщицки, хитро улыбнувшись, посмотрела на меня, мол, есть, теперь, небольшой секрет один на двоих…
Я раскраснелся, чего за мной никогда не замечалось.
– Meine Erfolge werden sich nicht lange warten lassen, ich verspreche dass mein Geliebte Mentor Natalia konstanitnowna!
– О-о! – воскликнула, наверное, восхищенная этим мини-монологом Наталья Константиновна. Эту фразу «Мои успехи не заставят себя долго ждать, обещаю, мой любимый наставник Наталья Константиновна» тоже заучил с помощью Йозефа перед экзаменом.
Более парадоксальная, а может и анекдотичная ситуация сложилась на экзамене по истории компартии СССР.
Принимал экзамен старенький профессор Жуков, наверное, учивший историю еще в царские времена. Перед экзаменом я почти не заглядывал ни в учебники, ни в конспекты. В то время приходилось активно и увлеченно изучать Питерскую архитектуру, а историю, как считал, знаю превосходно, ничего сложного в предмете нет.
– Кстати, вы приехали учиться к нам не с Чукотки?! – Жуков расплылся в потрясной улыбке.
А мне показалось, он издевается надо мной.
– Я чукча в десятом поколении, – злорадно сказал ему.
Но дело было в другом – Жуков когда-то после университета короткое время работал на Чукотке, учительствовал, и его, конечно, интересовала нынешняя жизнь «на краю земли».
Но моя реакция очень удивила его. Внимательнее вчитавшись в имя и фамилию, он понял, допустил оплошность.
– И так, уважаемый, – профессор помедлил, листая страницы большой тетради.
– А почему Вы не пришли на экскурсию в Ленинградский филиал Центрального музея имени Владимира Ильича Ленина, дорогой Батадаев?
– Я был на экскурсии… Но не там… То есть, осматривал архитектуру Мраморного Дворца, где сегодня и расположился этот Ваш музей. Теперь знаю, здание возводилось по указанию самой императрицы и стало завершающим зданием Дворцовой набережной Невы. А строил его сам Антонио Ринальди, великий итальянский архитектор…
Профессор недовольно поморщился. Я распалялся все больше и больше. Мне казалось, этот профессор, старый питерский интеллигент, должен по достоинству оценить мои архитектурные познания. И, вдохновившись, продолжил:
– Императрица строила мраморный дворец для своего возлюбленного, графа Орлова, но, к сожалению, он не увидел этого восхитительного архитектурного творения – умер в 1783 году. Поэтому здание было подарено великому князю Константину Николаевичу…
– А кто это такой? – небрежно спросил профессор.
– Что вы, это же генерал-адмирал, второй сын императора Николая Первого и императрицы Александры Федоровны, младший брат императора Александра третьего…
– Так, так-с, – постукивал костяшками белесых пальцев профессор.
– Мраморный дворец знаменит английским кабинетом, готической музыкальной гостиной, нижней библиотекой – все это создал впоследствии великий князь Константин Константинович, сын…
– Хватит! – резко бросил профессор.
– А где конспекты работ Владимира Ильича Ленина?
– Вот, пожалуйста, – протянул тетрадь, которую держал в руках.
Профессор Жуков начал внимательно вчитываться в тетрадные строки.
– А что это за сокращения такие, вот, например, «раб. кл.» – спросил профессор.
– Рабочий класс.
– Мне показалось, пишете «рабы классные», – усмехнулся преподаватель.
Вдруг профессор начал машинально листать страницы, вчитываясь в конспекты классиков марксизма-ленинизма.
– Это же не конспекты, студент Батадаев?! Я вижу, Вы переписали первые и последние абзацы великих работ Ленина?! Как можно так?! Это же издевательство!
Он бросил тетрадь на стол. Немного успокоившись, спросил:
– Ну-с, господин Батадаев, расскажите-ка мне, как Вы читали Ленина?!
– Его вообще-то интересно читать…
– Вообще, или в общем?
Я понимал, что это деепричастие, в совершенном и несовершенном виде означает одно и то же. А понимает ли это профессор?! Ну, черт с ним:
– Особенно если сравнивать то, что он писал до революции, и то, что он писал уже в двадцатые годы…
– И что же Вас заинтересовало?
– Поначалу он писал о городе-солнце, который будут строить большевики, а позднее стал писать о борьбе с меньшевизмом, о монополии на хлеб, о расстрелах…
– Да-а, господин Батадаев, а Вы знаете, студенты, которые посетили мою экскурсию в музее Владимира Ильича Ленина, все получили «отлично». Не знаете, почему?
– Сие, наверное, известно, лишь Богу одному…
– О-о! Да Вы еще и в Бога веруете?
Молчание затягивалось, я понимал, допустил много ошибок на экзамене… идеологических ошибок.
А ведь профессор, казался, интеллигентнейшим человеком… старым питерцем…
Не удивился, когда он назначил переэкзаменовку: «Когда лучше подготовитесь, приму экзамен», – буркнул он.
Я был в хороших отношениях с замдекана, завкафедрой истории журналистики Хасбием Сергеевичем Булацевым. Не раз и не два играли блицпартии в шахматы. С Булацевым познакомил меня Владимир Георгиевич Комаров, доцент журфака, родом из Читы. Комаров рассказывал, что Булацев первым в СССР начал изучать становление провинциальной прессы не какого-то отдельного региона, а процесс развития региональной печати в целом по стране. Также он разработал новый курс по истории журналистики народов СССР, именно с подачи Хасбия Сергеевича началась системная подготовка профессиональных журналистских и научных кадров для национальных республик.
Премилейший человек был Хасбий Сергеевич, интеллигентный, вдумчивый, кумир многих студентов журфака.
Когда Хасбий Сергеевич спросил меня: «Как сессия?», ответил: «Все идет классно, но вот профессор Жуков на экзамене по истории обозвал чукчей и выгнал с экзамена…»
Ринча знал, на что давить, ведь замдекана чечен. На следующий день вызвали в деканат и объявили: «Переэкзаменовка через два часа. В присутствии декана».
Когда пришел в аудиторию, за преподавательским столом сидел представительный мужчина в очках. Увидев меня, он слегка улыбнулся, кажется, даже загадочно, мол, сейчас покажу, «где раки зимуют». Я узнал его – это профессор Владимир Георгиевич Ревуненков, завкафедрой новой и новейшей истории истфака. Декана журфака Александра Федосеевича Бережного, конечно, не было. В деканате, видимо, решили припугнуть именем декана наглого студентика.
– Будете тянуть билет? – спросил Владимир Георгиевич. – Или задам вопрос на засыпку?
– Давайте на засыпку, – поперхнувшись, вполголоса, промямлил я.
Владимир Георгиевич сидел, словно отрешенный от сего мира, взгляд его уперся на поверхность пустого, чистого стола.
– Ну-с, на засыпку, так на засыпку… Расскажите, пожалуйста, все, что знаете о девятнадцатом съезде.
Я думал, попросят рассказать о каком-нибудь национальном вопросе, о ленинской национальной политике, именно в этих вопросах я был силен. А тут, такой сложняк, этот скандальный съезд партии, созванный, говорят, против воли Сталина в октябре пятьдесят второго года, такое двоякое толкование этого съезда… Вспомнил, как недавно познакомился со студентом-земляком Зориком, с истфака. Он рассказывал, в годы репрессий половину преподавателей истфака пересажали в тюрьмы, и эта тема до сих пор там аукается.
И тут же решил, будь что будет, расскажу и по учебнику, и по «не учебнику». На курсе сблизился с Колей Вареник, он увлекался учением Плеханова, даже на книжной полке в его комнате красовались томики работ в темно-коричневом переплете с золотистым тиснением «Г. В. Плеханов». Как мантру Коля Вареник под хмельком частенько повторял, что в СССР нужна не эволюция, а революция. Но для этого потребуется, наверное, целое столетие, человеческой жизни не хватит на борьбу – нужно организовать новую партию, учить новые кадры, создавать новую теорию, социал-демократическую… В частности, Николай рассказывал о девятнадцатом съезде, он явился бунтом высшей партийной номенклатуры против стареющего Сталина, именно тогда было объявлено коммунистами, что «мы не большевики» и переименовали ВПК(б) в КПСС. Коля, вероятно, знал, что говорил, ведь отец его, по слухам, крупная партийная шишка.
– Это была уголовная разборка! – тихо, словно могли услышать, шептал на ухо Коля. – Авторитетные урки хотели прогнать своего пахана, для этого упразднили политбюро и создали президиум…
Вспомнив эти слова Вареника, я, наверное, дерзко улыбнулся.
– Вы готовы отвечать?! – спросил Владимир Георгиевич.
– Можно, буду отвечать не академически, а словно размышляя?
– Но, по сути, без заскоков, – посоветовал профессор. Видимо, был наслышан, до какого фантазерства могут дойти журфаковцы, эти будущие правдорубы пера и микрофона…
– Съезд известен, прежде всего, тем, что принял решение: ВКП(б) впредь именовать КПСС. В постановлении съезда отмечено: двойное наименование партии «коммунистическая» – «большевистская» исторически образовалось в результате борьбы с меньшевиками и имело своей целью отгородиться от них. Поскольку меньшевистской партии в СССР давно нет, двойное наименование партии потеряло смысл, тем более, понятие «коммунистическая» выражает наиболее точно содержание задач партии. Нужно отметить, предыдущий, восемнадцатый съезд партии, состоялся до войны, в тридцать восьмом году, и перерыв почти в пятнадцать лет фактически являлся нарушением устава партии…
– Так, хорошо, далее, не торопясь, – советовал профессор. – Политбюро было упразднено, образовали президиум…
– А какую должность занимал в те годы Сталин?
– Он был секретарем ЦэКа партии, а также председателем Совнаркома до конца войны, а потом – председателем Совета министров.
– Да, правильно, и председателем совета обороны в годы войны, – уточнил профессор.
– В послевоенные годы Сталин занимался хозяйственными проблемами, даже написал аналитическую статью «Экономические проблемы социализма в СССР». Мне кажется, Владимир Георгиевич, Сталин хотел отстранить партию от руководства страной…
– Стоп, стоп и ещё раз стоп! Кто это вам сказал? Неужели профессор Жуков?!
– Нет. Коля Вареник, мой однокурсник. У него есть вырезка из газеты «Правда», в которой написано, как Сталин говорил венгру, не помню его фамилию, что коммунистическая партия, какой бы она ни была популярной, является лишь маленькой частицей народа. А советский народ считает своим представительным органом правительство, поскольку оно избрано депутатами, за которых проголосовал весь народ.
– Это Сталин сказал лидеру венгерских коммунистов Ракоши, – уточнил Ревуненков.
– Эта мысль Сталина говорит о второстепенной роли партии…
– Ладно, достаточно… Скажите мне, сколько человек входило в состав президиума?
– Точно не помню, больше двадцати, а вот кандидатов было одиннадцать.
– Что еще можете сказать по президиуму? – пытливо смотрел Владимир Георгиевич.
– Сталин образовал еще бюро президиума, из пяти человек… Это для оперативного принятия важных решений…
Я понимал, нельзя останавливаться, делать большие паузы, нужно говорить и говорить… Все, что знаешь, ну, хотя бы помнишь…
– А еще Сталин выступил с краткой речью на закрытии съезда, он сказал, нашей стране и партии нужны проверенные, преданные коммунистической идее люди, патриоты и профессионалы. А не те, кто с помощью членства в партии заботится о своей карьере… Тогда же Сталин высказался против даже роста численности партии… Да, еще – Сталин присутствовал лишь в первый и в последний дни работы съезда, потому что прибаливал…
– Хорошо, Вы правильно ориентируетесь, знаете основные положения съезда…
Я видел, как профессор в крошечном блокнотике что-то записал, когда я говорил о Коле Варенике.
– Владимир Георгиевич, можно просьбу. Коля Вареник не говорил никаких слов про КПСС, это я приврал, кажется, подставил друга…
Ревуненков рассмеялся, тут же вырвал страничку из блокнота и отдал мне. Там было написано: «Вареник, журфак, отрицает направляющую и руководящую роль КПСС?!»
– Ладно, последний вопрос на засыпку. Расскажите, если что-нибудь знаете, о здании, в котором сегодня находится наш исторический факультет.
Я понял, Ревуненков узнавал у Жукова, что за студентик такой, этот Батадаев, собирающийся обыкновенное незнание предмета увести в плоскость дискриминации представителя национального меньшинства.
– Отвечу по существу. Здание двухэтажное, типичное помещение для торговли, четырехугольные лавки, обнесенные галереей – бывший Новобиржевой гостиный двор, строил его итальянский архитектор Джакомо Кваренги в пору расцвета торговли в новой столице Российской империи. В годы советской власти, бывший Гостиный двор стал студенческим гнездом: там разместились Вы и Ваши коллеги. Это случилось ещё до войны…
– С таким бы усердием Вам учить историю КПСС, – улыбнулся профессор.
– Да, кстати, когда сюда заселили истфак, здание перестроили для нужд университета: добавили третий этаж, изменили интерьер, а потом построили вестибюль с гардеробом и знаменитый среди студентов двухэтажный лекторий на четыреста мест, выполненный в виде амфитеатра.
Поначалу хмурый, как бы замкнутый в себе, даже в чем-то настороженный, Ревуненков подобрел, даже улыбнулся, испытующе, изучающе, смотрел на меня, словно пытаясь понять: кто он, этот молодой человек, фигляр или бунтарь, а может обыкновенный сноб?
– Вы не против, если поставлю Вам «отлично»? – вдруг спросил Владимир Георгиевич и этим вопросом, может быть двусмысленным, поставил меня в тупик.
– А я заслужил такую оценку своим сумбурным, порой сбивчивым ответом? – вопросом на вопрос ответил профессору.
Это, видимо, на секунду-другую обескуражило Ревуненкова, ожидавший, вероятно, ответа, как и от любого студента: «Конечно же!», но все же поставил в «зачетку» пятерку.
– Вообще мне интересно общаться с будущими журналистами, – сказал на прощание Владимир Георгиевич. – Они не ординарные люди, нестандартно мыслят. Ну, до свидания…»
Одним из таких «не ординарных» и «нестандартно» мыслящих, был Коля Вареник, из соседней комнаты. Мы с ним «корефанили», у нас были общие, часто обсуждаемые нами, темы – Достоевский и Плеханов. Для меня Федор Иванович был не понятным, а для него – гением.
Также мы спорили, кем был для русской революции Георгий Валентинович Плеханов. Если Николай считал его русским гением, сравнимого с апостолом Андреем Первозванным, то я считал, что он простой революционный литератор.
– Ты же должен знать, что Плеханов похоронен здесь, в Питере, рядом с Тургеневым, Белинским… Кстати, мать Плеханова являлась внучатой племянницей самого Белинского… И ты должен знать, что последняя воля Плеханова звучала так: «Похороните меня, как литератора»…
В наших дискуссиях принимали участие и наши однокурсники из Чехословакии. Они мало знали о Достоевском, и внимательно слушали наши прения, ведь по его произведениям придется сдавать экзамен.
Оказалось, творчество Достоевского у чехов и словаков было мало известно, и наши чешско-словацкие однокурсники почти ничего не знали о гениальном русском писателе. А Йозеф Седлак, словак из Братиславы, поделился, что в восьмидесятых годах еще девятнадцатого века был опубликован сокращённый чешский перевод «Преступления и наказания» в газете «Народни листы». Тогда чешская писательница Каролина Светлая так отозвалась о русском писателе: «Какой это великан, какой Христос!».
И это были все его познания о Достоевском.
Карел Гвардник поделился: популяризация, известность Достоевского в социалистической Чехословакии началась с инсценировок его романов на театральных подмостках, к началу семидесятых годов в театрах поставили около двадцати пьес.
– У нас, в СССР, много и хорошо знают о чешских писателях, – недоумевал Вареник. – Юлиус Фучик, Вацлав Гавел, Карел Чапек… Вот лишь навскидку, ваши литераторы… А вы?! Достоевского не знаете?! Как же так?!
Мила Невски, одногруппница, вскрикнула:
– Коля, Микола… Мила заступалась за свой народ: – первый президент Масарик после падения Австро-Венгерской империи, был поклонником Достоевского, он разделял взгляды Федара Михайлойвовича по многим религиозным вопросам, ценил психологизм в оценке человеческих побьюждений… Никола, не говори, что чехи не знают Достаевскакого…
Тут вскочил Йозеф:
– Франтишек Шальда, литературовед и критик первым у нас напечатал статью «Творчество Достоевского и его положение в Европе… И это было смело, накануне фашистского переворота в Германии…
Коля как-то сказал: «Слушай, у нас в СССР, очень хорошо знают европейскую литературу, а эти… даже о Достоевском плохо наслышаны… Тоже мне, братья называются…»
Тогда не придал значения его словам, ведь как всегда, Николай часто бывал категоричен в суждениях



