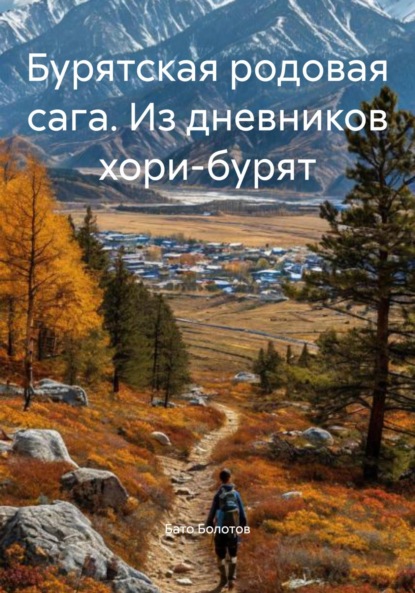
Полная версия:
Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят
– Нужно нам, бурятам, идти дальше, вперед и вперед, не забывая свои истоки. Хори-буряты – живой и классический пример сложившейся культурологической, политической, гуманитарной нации. Почему на хори сегодня идут разрозненные нападки от различных этнических групп внутри бурятской нации? Потому что у них нет всего того, что есть у хори-бурят, они являются просто этническим группами внутри бурятской нации, но они же ведь хотят выглядеть крупнее, выпуклее. У хори-бурят есть очень сильная военно-политическая история, у нас сформирована богатейшая, всесторонне признанная культура, литература, песенный и устный фольклор, буддийская культура, своя этика, отражающие принципы, традиции и обычаи. Все это вместе взятое отражают особенности культуры и мировоззрения хори-бурят, которые опираются на буддийскую религию....
– Главное у хори-бурят в этике – это совершать добрые дела, не рассчитывая на благодарность…
–Да, все это и есть этика! Дай, закончить свою мысль! Хори-буряты представляют сейчас классическую нацию, опору и сердцевину бурятского народа, его кладезь. Потому что хори базируются на общепринятых ценностях, а не на родоплеменных конструкциях. Как в восьмых-десятых веках распался родоплеменной строй у восточных славян, так и у бурят родоплеменизм распадется. А поддерживается пока он искусственно, в основном, местными политиками, которые не хотят расставаться с депутатскими или чиновничьими креслами, должностями. Не ради процветания народа, а для личного блага, раздувания мнимого авторитета…
– Слушай, Ринча, бурятский народ не вырастил пока современных идеологов, выдающихся, авторитетных лидеров, поэтому мы теряемся в этом огромном мире… Каждый бурят обязан своим умом, сердцем и душой понять, целостность народа в единстве, уважении и знании нашей культуры и языка. Мы порой делимся то на западный или восточный, то хоринский или сонгол… Не нужно делиться, самое главное для каждого бурята – это целостность нашего народа, мы древний народ и этим нужно гордиться…
– Нужно язык свой сохранить! Язык! Он – наша душа, наша мать. Я знаком с одним поэтом, Батожаргал Гармажапов зовут его. Тихий, не шумливый пожилой мужичок, но как заговорит, хочется его слушать и слушать, глаза его загораются вдохновением, руки вздымаются в такт словам… По краткости наш язык близок к английскому, по четкости звучания – к немецкому. В нашем языке нет странностей, как в русском, когда неодушевленным предметам придаются признаки пола – рода. Наш язык певуч, иносказателен, красив, ударение переставь в одном и том же слове сначала на первый слог, потом второй, потом на третий, и ты получаешь совершенно другое по смыслу значение слова…
Ринчу было не остановить. Говорил он красиво и убедительно. Я тоже хотел выговориться:
– Слушай! Бурятский язык, один из диалектов монгольского языка, – говорю я. – Даже не так, а нужно говорить, что наш язык, это бурятский диалект монгольского языка. Ведь мы – монголоязычный народ!
– Все это тривиально! Нет, проблема бурятского языка не в том, что его теснит русский, английский или китайский языки. Это весьма поверхностное и расплывчатое, не конкретное объяснение важности языка. Самое главное – язык хранит народные знания, в виде поговорок и пословиц, сказок, улигеров, песен, баллад и эпосов. Чем древнее тексты этих произведений, тем ценнее и мощнее наше знание, тем больше в них смыслов и образов, на которых воспитывается поколение за поколением. Вот твоя бабушка говорила тебе, песня лучше поется на родном языке, а в переводе теряет глубину и идентичность образов, смыслов. Умница – твоя бабушка, хотя университетов не кончала! Язык нужен не только для того, чтобы извлекать знания, а чтобы твои потомки были похожими на тебя, не стали искусственными интеллектами, роботами без роду и племени. Чтобы после твоей жизни, через века, наши потомки описывали мир таким, каким ты видел его, видел отношения в мире и себя в этом бушующем окружающем мире, как бы ты воспринимал все это. Разве можно перевести песню Наи Нава на английский так, чтобы они воспринимали его так, как мы, хори-буряты?! Англосаксы никогда не поймут нас, как и мы их, через песни, сказки, улигеры. Язык во много крат, математически и философски длиннее, чем жизнь человека, народа. Именно в этом смысл не терять родной язык!
– Нужны политическая воля, комплексный подход, а пока у нас одни нытики занимаются проблемами бурятского языка, – начал было я…
В этот момент Ринча поднял вверх указательный палец:
– Бато! Стоп! Начинается пьяная болтовня! Друг друга не перекричим, не переспорим! А вот поругаться, рассориться можем… Мы не специалисты…
– Не прерывай меня! Я о другом… Мы, буряты, становимся россиянами по причинам идентичности в духовном восприятии мира, православие и буддизм не противоречат друг другу, а взаимодополняются…
– Мир сошел с ума… Или сходит с ума…
– Америка давно не умная, глупая и развратная страна, совратила свой народ. Под красивой этикеточкой подается серая жизнь, словно она настоящая, загадочно-прекрасная, а душевная мечта простых людей превращается во все развратное, хамское, аморальное. И наши россияне тоже кидаются в этот омут…
Ринча хлебнул остывший чай, и вновь начал свой блистательный монолог:
– Горстке толстосумов Америки этого уже мало, мало, что загубила свой народ. В погоне за мировым господством они хотят пустить по такому же пути и Европу. Но там постулаты другие, ценностей больше, традиций больше, например, французы по менталитету ближе к русским… Нет, Европа так быстро не сойдет с ума, как и Россия.
– Ринча, нас опять будут дурачить. Все эти призывы к морали, есть не что иное, как признание несостоятельности общества к самоочищению. Те, кто призывает к морали, будут обогащаться аморальными способами. А мы, сибиряки, в своей большей массе деревенский люд, в первом поколении горожане, будем моральными, праведными, справедливыми, но бедными, нищими физически…
В моей воспаленной этими речами, с коньяком, голове, казалось, рождалась проповедь справедливости, в которой так нуждается мир. Именно там, где ощущается недостаток справедливости, вспыхивают революции, войны, сыплются бомбы, бегут из родных мест миллионы истерзанных людей, они убивают друг друга, рушатся семьи, растут обделенные любовью дети…
Наш горячий спор прервал внезапный приход жены. Ринча, весь любезность, поцеловал руки, извинялся, а потом выхватил из портфеля букетик нежных, белых цветов, похожих на глазастые полевые ромашки.
Жена тут же показала свои познания в цветах:
– Считается, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. А ее название происходит от латинского слова, не помню какого, но в переводе означает «римская».
– Вот, Вы, как римлянка – строгая, элегантная…
– Ну, ну, – я остановил Ринчу.
Жена бросила недовольный взгляд на меня и удалилась в зальную комнату. И меня, и Ринчу немного «штормило», но мы, советские люди, любили говорить на «высокие» темы именно в таком состоянии. По трезвянке как-то не получалось, не на собрании же коммунистов…
Но мы по инерции, что ли, продолжали свой политико-кухонный «базар»:
– Например, Сталин…
– Сталина не трогай, он пионерам дворцы строил, а сам в сапогах ходил…
Мы, казалось, целую вечность стояли в прихожей, взявшись за руки, прощаясь, ладонь в ладонь… Я припоминал какие-то стихотворные строки, что-то бормотал, вроде, «ладонь в ладони за миг до расставания, подобно листьям, что встретились в полете, подхваченными ветрами…»
– Это танка, японская танка. Помнишь?!
Я тоже помню эти строки, во времена нашей молодости японскими танка увлекались десятки тысяч советских интеллигентов, это было модно…
– Ринча, да ты, как стеклышко, трезвый, как будто и не выпили почти по триста…
– Я в гостях ведь, а ты – дома. В этом вся разница…
– А давай, Бато, споем, как в молодости: «Три танкиста выпили по триста…»
Потом невпопад продолжили: «Броня крепка, как корка у арбуза, а экипажа в мире нет храбрей, ведь, пацаны со всех концов Союза, бурят, татарин, русский и еврей…»
Потом Ринча, уже на прощание, сказал: «Зачем нам танки японские, когда есть такие стихи…»
И он начал читать строки одного известного в своих кругах поэта, кажется, по фамилии, Иноземцев, которые бы в советское время наверняка назвали хулиганскими и запретили.
Жил на веку, на Двадцатом.
Шел по дороге пустынной,
Без видений закатных,
Коммуны новой ратник.
С кем я шёл – поотстали.
Или дальше промчались.
Словом, все поостыли,
И давно распрощались.
Помню вас постоянно,
К вам влетаю с разбега.
Мне бы водки полстакана —
Из Двадцатого века… -
– О чем эти строки?!
– Так, грустная мелодия… Бывает так… И строки ни о чем… Так, для ностальгического настроения…
Мы постояли еще немного, вышли на лестничную клетку.
– А все-таки ты гад, Бато, бросил курить. Сейчас бы подымили, вспомнили, как пиво пили на скамейке пустынного стадиона. И я бы тебе рассказал стишок «Середина века», не помню, имени автора. Например, такие строки:
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
Где-нибудь, в пределах Байкальской турзоны,
Впрочем, где поля убирают, а не стригут газоны,
Где остались еще тропы не хоженые.
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
И плакать со всеми о кончине Сталина.
Да, со всеми, и именно плакать,
А вы плакать, наверно, не стали бы?
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
Пускай коллективное все, и нет социализма,
Зато есть вера в людей и в Союз.
Сейчас проблемы «глобальнее» стали,
Накрылся винчестер, разбился ноутбук.
Признаться честно, и люди достали,
Но сильнее всего достает видеодруг.
На лестничной площадке мы стояли довольно долго, наверное, поэтому супруга сказала нам: «Простынете, зайдите домой…»
– Ну, ладно, действительно, мне пора, скоро поезд у меня. Еще приеду, и не раз…
Ринча вновь начал декламировать стих:
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна.
Чего ж нам ещё было надо,
Какого, простите, рожна?!
На рубль можно было напиться,
Проехать в трамвае за пятак…
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк…
Вид у Ринчи был грустный, кажется, ему хотелось еще поговорить:
– Давай, напоследок, споем бурятскую песню, «Захяа» называется, «Завет» по-русски…
Немного невпопад, тихо затянули нашу песню:
Аглаг тэнюун дайдадаа,
Абынгаа захяа haнaapaй.
Айдархан залуу наhандаа,
Амарагтаяа жаргаарай.
Залиршагуй залуу наhандаа,
Замай харгы зубooр олыш даа.
Дундаршагуй дуурэн жаргалтай,
Дуулим талаар дуутай ябаарай.
Кажется и у меня, да и у Ринчи, точно, потому что я видел это, появились слезинки на щеках, капли, как дождинки. Удивительно, но бурятские песни вызывают мокроту на глазах. Не грусть, не радость, а какая-то неизбывная печаль, а может быть, тоска. Наверное, так тоскуют по ушедшим в нирвану предкам, или об отце и матери, у которых не попросишь уже совета, не обнимешь их…
Ринча собрался идти, через час у него поезд.
Вдруг с верхней лестничной площадки спустилась соседка Светлана, по-бурятски зовем ее Сэлмэг. Мы хорошо знакомы, наши внуки одноклассники. Она приветливо и дружелюбно улыбнулась:
– Вышла из квартиры, услышала, как вы с товарищем поете и постаралась не прерывать вас… Замечательная мелодия, много бурятских песен слышала, но эта особенная, завораживающая, слышится и грусть, и надежда на что-то… Знаю несколько слов, харгы – это дорога, залуу – молодой, дуран – любовь, аба – отец… – улыбаясь, говорила Светлана.
– Здравствуйте! Эта песня-наказ отца и матери детям, – говорю, все еще взволнованный.
А Ринча добавил:
– Там поется, когда позврослеешь и будешь в дороге дальней, помни заветы наши и выбери верный путь, который принесет счастье…
– Хорошие бурятские песни, не только напевные, мелодичные, но и с глубоким смыслом…
– А я люблю русские песни, например, в исполнении Кобзона, или Варвары… А какие таланты открывает передача «Привет, Андрей»?!
Мы обменялись, кажется, любезностями.
– Кстати, – ворвался со своим мнением Ринча – примерно такие же темы раскрываются в песне православного монаха Сергия Мерзликина. Наверняка знаете песню?
– Да, конечно…
– Он затянул мелодию, скорее всего, невпопад, забывая слова песни:
Ты цени каждый миг, сынок,
Каждый день и мгновенье.
Сколько б не встретил бед и тревог,
Сохрани в своем сердце терпенье…
– Да, это популярная песня, знаю и слышала не раз…
Тут на площадку, услышав наши голоса, вышел муж Светланы – Саша. Они оба корнями из бичурских, семейских, замечательная пара, улыбчивая, дружелюбная, Сашу многие зовут еще Саяном, так и вжилось – Саша-Саян. Они потомки старообрядцев, не принявших в православии нововведений патриарха Никона. Сначала их предков переселили на территорию Польши. Когда эти земли вновь попали под владения Российской империи, по указу Екатерины Второй отправили сюда, в этническую Бурятию. В одна тысяча семьсот шестьдесят седьмом году в Бичуру прибыло двадцать шесть семей – семьдесят два человека. Потом были еще тысячи переселенцев, но Светлана и Саша потомки тех, первых первопроходцев.
Оба они родом из села Верхний Маргинтуй. Я бывал там в командировке, прежде всего люди там простые и сердечные, любят угощать приезжих разносолами и вареньями из диких и огородных ягод. Кругом деревни отроги Заганского хребта, разделенные сопками и долинами. Горные хребты, спускаясь к реке, переходят в ровные поля и степи. Красотища!
Вспомнил отрывок из стихотворения про Бичуру. Когда работал в «Правде Бурятии», в середине лета собрался в командировку в Бичурский район. Там никогда не бывал, а коллега Иван Игумнов продекламировал поэтические строки, приговаривая: «Если желаешь познать милую и прекрасную Бичуру, услышь эти строки… Душою, сердечком своим поймешь об этих удивительных краях больше, чем из справочников. Мне навсегда запомнились некоторые строчки, словно песни, поэтому экспромтом и закатил стишок:
Средь пыльной степи,
Где резвится Хилок,
Там русский с бурятом
Породнились навек.
Там дома, как грибы,
Врастают в тайгу -
В Маргинтуй, на века.
Здесь на двух языках,
Все с детства гутарят.
Сколько б не злились,
И жара, и мороз,
Здесь русский с бурятом,
Живут как друзья.
Их закалила степь и тайга,
Потому, мы родня навсегда!
Мы поаплодировали, но Ринча вспомнил, что опаздывает на поезд.
На том, улыбаясь, вежливо раскланиваясь, мы разошлись…
Мне же на следующее утро подумалось, наши воспоминания с Ринчей были похожи на ностальгию, которая никогда с зеркальной точностью не воспроизводит ход ушедших дней и событий. В ней часто превалируют субъективные, ошибочные видения и сны, может, надуманные. В этом парадокс ностальгии: люди тоскуют по всему прошлому, даже негативному.
В воспоминаниях все прошлое окрашивается в ностальгическую оболочку, и снимает с души все имевшиеся когда-либо травмы.
Глава II
Наутро проснулся выспавшийся, довольный, так я чувствовал себя, иной раз в детстве, рядом с бабушкой. Как всегда, принял душ, позавтракал. Не покидали мысли о Ринче. Он уже уехал, где-то там, вдали, занимается своими делами. Никогда в жизни не думал о нем так, как сейчас, наверное, поэтому начал перебирать в памяти дни, когда шли бок о бок. Их и было-то совсем немного, десяток-другой дней, которые по молодости и не считает никто.
Но почему-то они запомнились, оказывается, врезались в память, хранились где-то на полочке в ожидании подходящего момента, когда окажутся нужны, эти кадры из кладези памяти.
И тут мой закадычный друг – компьютер – тренькнул, напоминая, пришло некое сообщение.
Письма могут быть нужные и ненужные. Я стараюсь как можно чаще удалять ненужные сообщения. Ведь немалая часть писем – банальная спамовая бубуйня, как выражается мой внук.
Открыв почту, с удивлением обнаружил, пришло сообщение от Ринчи.
Он вчера называл свой электронный адрес: achnir49@…
Увидев адрес отправителя, вдруг осознал, что слово «achnir» читается сзади наперед как «ринча», а число сорок девять – необычное, в нем другое священное число – семь повторяется семь раз.
И так, четверка является корнем числа сорок девять. Цифра четыре означает целость, совокупность, полноту; четыре стороны света, времени года, ветра, стороны квадрата. А в буддизме Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней текут четыре священных реки рая, символизирующие четыре безграничных желания: сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность; четыре направления сердца. Также у буддистов девятка – это высшая духовная сила, небесное число. Цифра девять означает всемогущество, и представляет собой тройную триаду: три в трех. Это число и окружности, отсюда деление на 90 и 360 градусов.
Просидел перед компьютером несколько минут, молча прокручивая в памяти то, что знал из нумерологии. Подумал: «Как все сложно у него…».
«Если долго смотреть на бутылку водки, рука медленно принимает форму стакана, – писал он. – Если бутылка полная, это к встрече с женщиной. Но не дай Бог, приснится тара, т.е. ящик из-под водки. Это сулит нищету. После такого сна лучше вообще надолго отказаться от выпивона, так как сон предостерегает: стану алкоголиком и проведу оставшуюся жизнь в нищете. К счастью, мне никогда такой сон не снился. Впрочем, толкований о полных и пустых бутылках много, и все они разные: то к добру, то к разводу, то к ностальгии какой-нибудь.
Мне сейчас, вот сию минуту, показалось, вчера мы не коньяк пили, а пробовали на вкус, что такое ностальгия. Впрочем, это печаль, или тоска? Эти два слова трактуются по-разному, и чтобы их объединить в одно, придумали слово «ностальгия», украв у французов флакон с ароматом печали и тоски одновременно. А еще мне кажется, что дневниковые записи придумали литераторы, чтобы ими подпитывать свою ностальгию. Я проснулся в поезде в пять утра, совсем скоро станция прибытия. Вытащил ноутбук и строчу первые попавшиеся на ум предложения.
Кстати, пирвет, Бато, здравствуй!
Мое письмо, наверное, это тоже дневник. Письма пишут, как и дневник, от чистого сердца. Проснулся весь в угрызениях совести. Почти как у Бродского:
Ни тоски,
ни любви,
ни печали, ни тревоги,
ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.
Встретились, долгие годы не виделись, и как дураки… выпили. Как-то не по-светски это… Зато по-советски, по-мужицки… Последняя мысль внедряет в сознание оптимизм.
Кстати, к водке и пиву приучила нас советская система. Если коммунист не пьет, он, либо хворый, либо подлюка. Помнишь, в райкомах и райисполкомах была такая присказка: «Кто не с нами, тот против нас». Вот и старались все мы соответствовать. А рядовой советский человек бухал просто от скуки. Выше слесаря или шофера не прыгнешь, никакое своё дело, свой бизнес, не откроешь, за границу в Америку не пустят, больше двухсот рублей в месяц не получишь. Вот и оставалось, ездить по выходным на дачу или на рыбалку, выпивать с друзьями. Однажды, от делать нечего просматривал труды «классиков», и наткнулся на письмо Энгельса Марксу: «Дорогой Карл! В тот день, когда рукопись будет отослана в издательство, я напьюсь самым немилосердным образом…»
Классики тоже бухали по-черному. Булганин рассказывал, они с Хрущевым как-то выпили по бутылке коньяку, «полирнули» водочкой и пошли в президиум митинга. И хоть бы что! Как стеклышки! А наш первый обкома рассказывал как-то в узком кругу, при Брежневе члены Политбюро умудрялись выпивать и закусывать, даже стоя за трибуной на Мавзолее Ленина во время парадов и демонстраций на Красной площади.
А помнишь анекдот о Брежневе?! Приезжает на завод, идёт по цеху, подходит к токарю, спрашивает: «Ты сможешь работать, если выпьешь стакан водки?»
– Смогу.
– А если два стакана?
– Смогу.
Тогда Брежнев спрашивает: «А если три стакана выпьешь, сможешь работать?»
Токарь отвечает: «А я что, не работаю?!»
Анекдоты были сюрриальным отражением нашей жизни. А может анекдотом была сама наша жизнь!? От этой мысли мне всегда становится страшно. Так давай жить без страшилок! А договор – дороже денег…»
Последняя фраза меня кольнула. Что Ринча имел в виду? Но не придал значения фразе о договоре, мне пришлась по душе мысль, что письма пишут, как и дневники, от чистого сердца.
Значит, подумал, он просит его электронные письма считать тоже дневниками и внести в будущую книгу.
И тут вспомнил, ведь в далекой юности я тоже писал дневники. Многие записи потеряны, однажды даже чемодан, хранившийся на балконе, попал под ливень, а там были тетрадки… Все промокло, поэтому выбросил чемодан с тетрадками, как ненужный хлам. Сейчас понял, всегда, исподволь, ненавязчиво, в глубине души сожалел о случившемся, не сумел сохранить кусочки своей жизни, впечатанные буковками и словами в биографию памяти.
Лихорадочно принялся перебирать старые и потертые папки с бумагами, от них пахло немного дурно, какой-то пылью, или плесенью, в горле запершило. Но тут подумал, как это могут быть неприятными воспоминания о прошлом. Ведь такими, какими мы были и есть, уже никто и никогда на этом свете нас не увидит. Не увидит и не узнает, если мы не сумеем оставить о себе, хоть какую-то память. Потому что все наши чувства и переживания превратятся в пыль, в прах, в золу, которые развеют по миру эти вечные странники – шумливые и глумливые ветра.
Все это пронеслось в голове в какой-то один ничтожно малый миг. Наверняка, уже через пять минут так не подумаю, колесница жизни понесет дальше… Черт возьми, как же это все-таки ценно, сохранить странички своей жизни на бумаге. Да, вот так подумал. Мимолетно. Мимоходом. И мысль, как снежок на апрельском солнце, испарилась. А вот в сохранившихся листах удалось найти любопытные записи.
«07 июня 1971 года. После дембеля прошло полмесяца. Сегодня выхожу на работу, на гражданскую должность. Отслужил, не нужно тянуться «в струнку» перед командиром, не идти на ночное дежурство, не строиться в узком коридорчике плавбазы перед тем, как идти на подлодку после завтрака или обеда. Как хорошо не слышать команд, типа «Стройся!», «Смирно!», Шагом ма-арш-ш!».
Как ждал этого дня там, на флоте! Ничего, что нет еще корочки о высшем образовании, главное, взяли на работу. Пожилой редактор окружной газеты, посмотрев вырезки из газет с моими публикациями, буркнул: «Похоже, писать можешь, напиши заявление, возьму с испытательным сроком…»
Я понял, с кадрами журналистов – туговато.
– В этот день Луна находится в знаке Скорпиона, – сказал мне знакомый лама, когда обратился к нему с просьбой «открыть дорогу». Мы были комсомольцами, а в душе, наверное, коммунистами, но все равно обращались не в райком, а к ламе.
– Этот день – время принятия ответственных решений, – говорил лама. – Потому что будет улучшенная мыслительная деятельность, возрастет способность к концентрации на сути проблемы, появится высокий уровень самокритичности, что как нельзя лучше позволяет отделить истинно важное от наносного, малозначимого.
Баир-лама еще сказал, что можно смело браться за новые начинания, брать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными. Монах был старше меня, наверное, лет на пять. Рассказывали, когда он захотел стать хувараком, слушателем буддийской школы, в райкоме комсомола, разузнав эдакую новость, вызвали его на беседу. Получив нагоняй в райкоме, он отказался от своих планов, наверное, испугался. И его назначили пионервожатым в родной школе. Но все же через год, втихую, он пришел в дацан и стал хувараком. Учился у опытного и уважаемого ламы, но в его словах я не единожды находил словосочетания, схожие со словами флотского «замкома» по политчасти.
Однако, соседская ворожея, баба Таня, кинув карты, немного спутала мои «карты».
– Стоит все хорошенько продумать и взвесить, – медленно говорила она, дымя папиросой «Беломорканал». – Так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. Седьмое июня – понедельник, этим днем управляет «ночное Солнце» – Луна. Его называют тяжелым днем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день нас захлестывают эмоции. Поэтому удачи чередуются с неудачами, успехи – с поражениями. Все становится ненадежным, относительным. Вплоть до того, что верные друзья могут подвести, а недруги… помочь.
Поэтому баба Таня посоветовала полагаться больше на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют, а еще, деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью».



