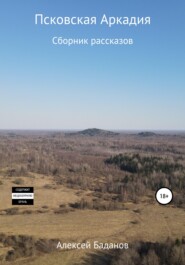 Полная версия
Полная версияПсковская Аркадия. Сборник рассказов
Мужчина взял в руку стакан с ацетоном и молча с остервенением залпом выпил его. Затем он также, огромными плавными прыжками, даже немного зависая в воздухе, словно булгаковский вампир Варенуха, выбежал в открытую дверь. Мы с Юрой вышли следом. На улице мы увидели, как наш неожиданный посетитель перемещается по тропинке в сторону храма. Прыжки его становились всё медленней и плавней, как наконец, метров через пятьдесят, он в очередной раз поднялся в воздух и плашмя, с глухим стуком упал, несуразно, как сломанная кукла, распластавшись по земле.
Я вопросительно посмотрел на Юру.
– Славик. Внук Егоровны, «Омеги». Пятый день в запое.
– Понятно,– ответил я, – Пойдём спасать.
Мы подошли к Славику, перевернули его на спину. На губах у него была пузырящаяся белая пена. Глаза закатились вверх. Пульс слабый. Других признаков жизни Славик не подавал.
– Надо скорую, – констатировал Юра. – У тебя телефон принимает?
– На колокольне. Две палочки «едж». А здесь глухо.
Я поднялся по затертым каменным ступеням на колокольню и начал переговоры.
– Станция скорой помощи. Что у вас?
– Мужчина, лет сорока. Тяжёлое отравление.
– Чем отравился-то? – голос на другом конце провода был уставший и недовольный. Очевидно отравленных там не любили.
– Он на моих газах выпил примерно двести грамм ацетона. Залпом.
– Зачем же вы ему налили? Вы что не знаете, что ацетон пить нельзя?
– Я ему не наливал. Точнее наливал, но не ему…
– Вы что, сами ацетон пьёте?
– Я не пью ацетон. Вы едете?
– Свободных бригад нету. Все на выезде. Может вы ему как-то сможете рвоту простимулировать. Ему прочистится надо. Заставьте его марганцовочки выпить. Розовенькой.
– Он без сознания. Статья 124 УК РФ. Неоказание медицинской помощи лицу…
– Ладно, куда ехать-то, – в уставшем голосе диспетчера появились примирительные нотки. Я назвал адрес. – Он около церкви лежит. Я бригаду в начале деревни встречу и провожу.
Спустившись вниз, я увидел, как Юра безуспешно пытается привести Славика в сознание, тормоша его за плечи и поливая из алюминиевого ковшика водой. Тот никак не реагировал. Лицо и шея его были серо-землистого цвета.
– Пойду Егоровну позову. Может она знает, что сделать можно.
– Хорошо. А я пойду скорую встречать.
Скорая помощь приехала на удивление быстро, минут через пятнадцать после вызова. Я стоял в начале деревни и видел, как по грунтовке от асфальтового «большака» пылит кривобокий «УАЗик» с красным крестом во лбу. Обернувшись в другую сторону, я увидел Юру и опирающуюся на палочку Егоровну. Юра помахал мне рукой.
«УАЗик» со скрипом остановился около меня. Широкая боковая дверь открылась и молодой фельдшер, чем-то похожий на доктора Барменталя из фильма Бортко, пригласил меня внутрь.
– Ну показывайте, где тут ваш отравленный?
Я сел на откидное сидение и показал куда ехать. Мы проехали мимо Юры и Егоровны и остановились около места, где упал Славик.
Открыв дверь и выйдя из машины, я застыл в недоумении. Славика не было. Ко мне подошли фельдшер и медсестра с оранжевым пластиковым кейсом.
– Ну, кого лечить будем? – спросила медсестра – энергичная полноватая молодая женщина.
Моё внимание привлекла фигурка, плавно, теми же нереально продолжительными прыжками удаляющаяся в сторону леса метров в трёхстах от нас.
– Вот…Его. – и показал пальцем на бегущего по полю Славика. – Кажется лечить надо было его…
– Этого? Не, этого не надо, – недовольно буркнул фельдшер, залезая обратно в машину, – Этого в олимпийскую сборную надо. Ишь, как чешет.
Скорая уехала, подошёл Юра. Я спросил:
– Как тебе «воскресение мертвых»?
– Да весь настрой сбил, засранец. Я хотел после обеда лики писать собору псковских святых. А теперь не могу. Разве что фона. Пойдём купаться.
– Пойдём
Мы пошли на речку.
И о высоком в тот день больше не говорили.
Псков, лето 2012.
Дом.
Купить «настоящего проходимца» было для меня исполнением детской мечты.
Я не был ни заядлым рыбаком, ни охотником, ни любителем трофи-рейдов, но в жутко неудобном авто на зубастых «тридцать шестых» колёсах было так много притягательного, что сердце не выдержало и опустошило банковский счёт.
Я вышел на парковку офисного центра и остановился перед своим боевым агрегатом – лифтованной трёхдверной «Нивой», выкрашенной в маскировочный цвет и возвышавшейся на голову, в ряду однообразных «Солярисов» и «Поло». Чёрная труба шронхеля поднималась над крышей и требовала примерить на себя «веселый Роджер».
Выезд на настоящее бездорожье откладывался третий месяц кряду по причине…Да без причины. Просто откладывался и всё.
Да и зачем? Мечта-то уже сбылась. Она же была в обладании, а не в том, чтобы лезть туда, «где волки срать боятся».
– Серьёзная тачка! Твоя?
Из медитации на тему собственной крутизны меня вывел голос из-за спины. Я обернулся и увидел мужика лет 40-45, мало чем примечательного, в джинсах, чёрных кроссовках «Найк» и спортивной куртке того же бренда с призывом «Просто делать это» во всю грудь. На лице и в глубоко посаженных глазах читалась неуверенность и какой-то испуг, но тон был даже немного нахальным. Я узнал его по щетке моржовых усов, хотя не разу до этого не видел без формы – это был один из охранников нашего бизнес-центра.
– Да, – ответил я с ощущением превосходства над всем миром вообще и над сорокалетними охранниками в частности, ради которого и был куплен мой микроБТР.
Вдруг мой собеседник сделал шаг вперёд, зачем-то взял меня за руку у локтя и с жаром заговорил:
– Я, я давно всё хотел тебя попросить, да всё боялся, а щас вижу, ты стоишь и прям думаю, скажу, ну что ему стоит, а я все оплачу там бензин, расходы, да и тётка накормит, она ещё сама пельмени валяет, а ведь недалеко, без дороги километров пятнадцать – двадцать, и тебе за радость, ведь не для города же ты такой танк держишь?
Высказал, почти выкрикнул всё это на одном вздохе, не давая опомниться и понять до конца, что же он всё-таки хочет. Взгляд его при этом напомнил мне моего любимого беспородного пса из детства, который мог разжалобить кого угодно и пользовался этим талантом, чтобы я опустошал для него родительский холодильник.
– Тебя куда-то отвезти надо? – я сам не ожидал такой реакции и такого вопроса от себя. Один мой приятель называл такие ситуации и диалоги «льюискэрроловскими», хотя я предпочёл бы сравнение с Хармсом или Ионеско.
– Да нет, зачем меня то? У меня в этом месяце 16 смен, я вообще дальше Купчино уже лет пять как…Нее, ты тётку мою, Анну Никандровну, ей 85 и совпало, у ней 9го день рождения, ну и День Победы опять же. Ты же на майские на природу поедешь, вот и езжай к ней, к тётке Ане, там только на твоей, больше не на чём, она меня второй год просит, отвези да отвези, а я все на тебя кажинный день смотрю и думаю, что ты точно отвезёшь, а вот щас сменился и дай думаю… Вот тебя как зовут?
– Андрей, – ответил я.
Несмотря на очевидную абсурдность и явное нарушение личных границ, я не испытывал дискомфорта. Более того, просьба моего визави, о сути которой я начинал уже догадываться, показалась мне логичной.
Действительно, промучившись три месяца в городских пробках на шумном, прожорливом и, мягко говоря, не очень динамичном вездеходе (за цену которого я вполне мог купить пятилетний C-klasse с автоматической коробкой передач), я вдруг сейчас осознал, что совершил эту абсурдную покупку именно на этот случай.
– И меня тож. И меня Андрей. Тезки мы значит, – продолжал между тем мой собеседник, – а это уж не с проста, я ж так и подумал, как сменился, это ж не с проста, думаю, у Андрюхи такой танк, уж он, думаю, тётку Анюту в два счета. Это вон Федька – сосед на своём тракторе зассал, сколько его не просили, а уж Андрей-то думаю, не зассыт. Да там нормально, ты только пилу возьми. Там дорога хорошая была, мне батька рассказывал, только не ездили давно, наверно деревья выросли на дороге, так что без пилы никак…
– Давно, это сколько?
– Да с сорок третьего, наверно, ну може с сорок четвёртого. Ну как немец ушёл. Так и не ездили…
Мы поговорили ещё с полчаса, и концу разговора я чувствовал себя уже членом семьи Андрея, у меня был номер телефона и адрес «тетки Ани» и она ждала меня 8го к обеду с самолепными пельменями. Адрес был простой Псковская область, Дедовический район, село Заозерье, за магазином. И ещё: «она с первого по четвёртый в началке пятьдесят шесть лет учила и её там кажинная собака знает. Пять лет как на пенсии потому что началку закрывши. И не звони ей, а звони Людке – продавщице, она передаст».
– Ты там перед деревней уже по лесу не пройдёшь, там дорога в озере утопла, ты в озеро и езжай, дно крепкое, пройдёшь, у тебя вон какой «шорнхель»,– блеснув напоследок знанием конструкции настоящих джипов, Андрей пожал мне руку, и я поехал домой готовиться к боевому крещению.
Готовить мне особенно было нечего. Последний год я опирался на концепцию «весь мир – говно, все бабы – бляди» и посему жил один в своё удовольствие.
Честно говоря, удовольствия мне такая жизнь доставляла мало, но после тяжелого разрыва с Ленкой, с которой мы три года орали друг на друга, подозревая самые гнусные козни и предательства во всем, новые отношения у меня «не заводились».
Следующим утром я проснулся без будильника в пол седьмого, облачился в добротный комбинезон, футболку защитного цвета и туристические кроссовки. Кинул в рюкзак смену белья, фонарь, охотничий нож и набор универсальных инструментов. В сумку с ноутбуком, с которой я каждый день ходил на работу я поместил зарядку для смартфона и бумажную карту Псковской области.
Первые 370 км до Заозерья я проехал скучно.
Мой «бэтээрчик», как настоящий лесной вездеход, движение по трассе не любил. Ехать пришлось с фурами в режиме 80—90. На большей скорости он начинал ёрзать по дороге и всем своим видом показывал, что может в любой момент свернуть в приглянувшийся ему лесок. В Луге я заправился и выпил кофе с бутербродом. На границе Ленинградской и Псковской областей полноценно пообедал в кафе за цену большого капучино в «Старбаксе». В пол двенадцатого свернул с асфальта на грейдированную грунтовку и почувствовал себя гораздо лучше. Мелкие камушки барабанили по аркам и днищу, почти заглушая вой трансмиссии. Их незамысловатая песнь как бы говорила «тут ты дома, тут ты дома, тут ты дома». Двенадцать километров дороги – извилистой, живописной и даже совсем не пыльной, после утреннего дождичка, привели меня в пункт назначения.
Село Заозерье началось с трансформаторной подстанции и кладбища в сосновом лесу. Проехав ещё метров 300 после указателя по довольно безлюдной местности, я вдруг оказался в центре местной цивилизации.
Центром был обшарпанный деревенский «супермаркет».
Импровизированную парковку занимали несколько новых автомобилей с питерскими номерами и доисторический «Москвич» без передних крыльев, капота и номерных знаков.
Перед магазином и внутри его было довольно оживленно. Люди совершали покупки и стояли по двое по трое, обсуждая деревенские новости. Открытие дачного сезона шло полным ходом.
Я припарковался, вошёл в магазин и увидел за прилавком бойко торгующую всяким товаром девочку лет 12—13 на вид. Она была одета в синий спортивный костюм, рыжие волосы заплетены в две тоненькие косички. Веснушчатое лицо сохраняло очень серьезное, даже чуть высокомерное выражение. Этакая псковская версия Пеппи – Длинный Чулок.
Со своими обязанностями она справлялась прекрасно. Быстро и точно в уме считала суммы покупок, явно разбиралась в сортах колбасы, и даже давала дельные рекомендации при покупке алкоголя, бывшего основным товаром в предпраздничные дни.
Я дождался, когда, выдав необходимое количество снедей и бутылок очередному дачнику, Пеппи не задумавшись ни на секунду сказала ему «одна тысяча пятьсот двадцать три» и спросил её, пока тот подбирал в портмоне необходимые купюры:
– Не подскажете, продавца Людмилу, где найти?
– А Вы – Андрей? Вас дядя Андрей прислал Анну Никандровну в деревню свозить?
– Да, вроде того…
В это время отчаявшийся дачник протянул Пеппи портмоне и попросил:
– Да заебался я считать, дочка, ты сметливая, возьми сколько надо сама.
Та взяла портмоне и быстро набрала необходимую сумму показывая каждую купюру покупателю:
– Так, дядь Вов, я у вас взяла тысячу, пятьсот и сто. Вот вам сдача: пятьдесят, десять, десять, пять и два.
Осчастливленный «дядь Вов» ушёл с двумя большими позвякивающими пакетами, а Пеппи обратилась ко мне:
– Вы тут постойте, посмотрите за товаром, я сейчас маму позову, продавец Людмила – мамка моя.
Она выбежала через заднюю дверь на улицу, и я тут же услышал её крик:
– Мамк, тут приехавши… за баб Аней!
И в то же мгновение вернулась обратно.
– Сейчас придёт, – и сразу повернулась к подошедшим покупателям. – Что вам?
Людмила оказалась потрёпанной жизнью копией своей дочери, на мой взгляд чуть за сорок (я потом узнал, что ей недавно исполнилось 33). Худая, невысокая женщина с выкрашенными «под блондинку» волосами, у корней которых просвечивала природная «рыжина», смотрела на меня карими небольшими глазами. В них была усталость и даже, как мне показалось, обвинение. Я почувствовал себя неловко и едва смог выдавить из себя приветствие.
– Приехал? А я думала брешит Андрюха, как всегда… Ну пойдём к баб Ане в дом, коль приехал.
Дом «баб Ани» был стандартным двухквартирным, обложенным грязным бежевым силикатным кирпичом. Крыльцо выкрашено яркой синей краской. На коричневом полу и ступеньках лестницы лежал домотканый застиранный половик с бледными красными и зелёными узорами, почти потерявшими цвет. Входная дверь обшита черным дерматином. Над дверью металлическая иконка Николая Чудотворца. С потолка, на витом шнуре – засиженная мухами лампочка.
К крыльцу примыкал ограждённый метровым забором из переплетенных ольховых жердей «палисадник», плавно переходивший в огород. Всё ограждённое пространство представляло собой царство геометрической красоты и гармонии. Создатели регулярных парков Версаля и Петергофа взирали бы завистливым взглядом на идеально пропорциональные грядки, белёные по линейке стволы яблонь и отсыпанные песком дорожки.
Во второй половине дома жила Людмила с дочкой Олей. У неё была новая металлическая дверь и окна-стеклопакеты. Вместо крыльца к цоколю были приставлены два деревянных ящика разной высоты позволяющих войти в дом. Огорода и палисадника, да и какого-то ограждения не было вовсе.
Сухая высокая Анна Никандровна в бордовом халате с узором «огурец» встретила меня у крыльца. На вид ей было лет семьдесят. Она улыбалась.
– С приездом, Андрюша, проходите в дом, сейчас кушать будем.
Мгновенно я почувствовал себя первоклассником, полностью доверился любимой учительнице и пожалел, что в школу двадцать четыре года назад я пошёл на Гражданке, а не в Заозерье.
– Да, Анна Никандровна, сейчас перегоню машину, возьму вещи и приду, – ответил я, немного смущаясь.
Припарковавшись у крыльца, я вошёл в её дом.
Вопреки моему ожиданию, внутри пахло свежестью и весной. Стены были обшиты ничем не покрытой доской— «вагонкой», порыжевшей от времени. В доме был идеальный порядок, очень много цветов в горшках и книг на полках, полочках, и в застекленных книжных шкафах. Белые деревянные оконные рамы выглядели свежеокрашенными, а стёкла отливали синевой. Коричневый дощатый пол покрывали домотканые дорожки разных форм: продольные, квадратные и круглые.
– Андрюша, мойте руки и проходите в зал, я сейчас накрою…
Я помыл руки на кухне, где в углу располагался белый «мойдодыр» – монументальное сооружение на кривых ножках.
Обещанные «самолепные» пельмени уже дожидались меня в большой тарелке с золотым ободком и ромашками, относящейся к какой-то дано ушедшей эпохе. Сами они тоже были из другого времени, не знавшего усилителя вкуса глютамат натрия и ароматизаторов, абсолютно идентичных натуральным. В граненом стакане, заполненном неестественно белоснежной сметаной, стояла тяжелая столовая ложка.
Я ел, не торопясь и думая о том, что всё это путешествие переносило меня скорее не сквозь накрученные на зубастые шины моего внедорожника километры, а на величину, куда менее заметную, но от того только сильней ощущаемую – годы.
Из моего полностью оцифрованного постиндустриального бытия, определяющегося социальными сетями и приложениями, я вдруг перенесся на несколько десятков лет назад.
В мир, где для обозначения отсутствия хозяина в доме к двери приставляется палка, а посещение соседней деревни, отстоящей на 15 км может занять целый день и обсуждаться ещё неделю.
Собственно, ради такого путешествия, я и приехал сюда.
История была в следующем.
Анна Никандровна родилась в 1934 году в деревне Глубокое, расположенной на берегу одноименного озера километрах в пятнадцати от Заозерья. Во время оккупации деревню сожгли, десятилетняя Аня оказалась у тёти в Пожеревицах. Она выросла, закончила школу, потом педучилище, потом институт, вернулась домой и проработала всю жизнь в Заозерской начальной школе, научив 14 классов мальчишек и девчонок читать, писать, думать и понимать жизнь.
И все эти годы она хотела доехать до своей родной сожжённой деревни.
Да так и не доехала.
В молодости она не осознавала, насколько боится этого места. Отговаривалась себе бессмысленностью, ненужностью такой поездки. Даже советовалась с воспитавшей её теткой Клавдией Егоровной. Та говорила: «Да что там по бурьянам бродить. Поди ногу наколешь.»
Да и жизнь она вела деятельную, не позволяя себе особого передыха.
О трёх десятках сельских ребятишек она пеклась как о родных, не только преподавая им обязательные дисциплины, но и делая с ними на «продлёнке» домашние задания, читая книги, а у иных и вычёсывая гнид мелким гребнем. Многие родители поначалу ругались на неё, приходили «выяснять отношения»: дети проводили два – три лишних часа в школе в ущерб своему участию в домашнем натуральном хозяйстве. Но поговорив с «учителкой» обычно смирялись и позволяли чаду отлынивать за книжками от уборки навоза и кормления куриц и поросят.
Замуж она так и не вышла и своего хозяйства не держала, чем удивляла и раздражала односельчан. Скромной учительской зарплаты хватало на почти монашеский образ жизни, главной статьёй расходов в котором были книги.
Книги были дефицитные и дорогие. Полные собрания сочинений русских классиков, среди которых выделялось юбилейное пятидесятитомное пушкинское, изданное академией наук к столетию смерти поэта в 1937. Библиотека приключений, зачитанная учениками до натуральных дыр в потёртых обложках и отдельно, особенно любимый детьми, пятитомник Жюля Верна.
В отпуск она почти всегда ездила в Пятигорск, где жила двоюродная сестра Надежда, вышедшая замуж за однокурсника, ставшего крупным партийным функционером. Отпускные расходы Анны Никандровны составляла оплата дороги в два конца. В гостях она оказывалась на всём готовом, да ещё и обновляла гардероб за счёт почти не ношеных платьев.
Последний год она стала просить знакомых и незнакомых отвезти её в Глубокое, говоря, что не сможет умереть спокойно, не посетив свой дом. Односельчане, хоть и почти все были её учениками, отнекивались как могли. Действительно на транспорте, даже гусеничном, в сожженную деревню уже давно никто не ездил. Доходили иные пешие грибники. Докладывали, что холм над озером лесом не зарос, даже где-то угадываются пепелища, зато от дороги не осталось и следа.
Здоровье Анны Никандровны для её лет было крепким, но пуститься в пятнадцатикилометровый пеший поход по лесному бездорожью все же было тяжело.
Когда сосед Федька, возивший на всю деревню на тракторе дрова, отказал, сославшись на ненадёжность своей техники, колёса, вращающие мир, сдвинулись, я купил ненужный мне внедорожник и приехал на нем за триста семьдесят вёрст от дома в гости ко вчера ещё незнакомым мне людям.
Ехать решено было завтра в пять утра.
Собрав всё необходимое для экспедиции, а также прогулявшись по деревне и не найдя в ней ничего интересного, я лёг спать в 9 вечера на металлическую пружинную кровать с огромными хромированными шарами по углам. Накрахмаленное до ледяной ломкости постельное бельё пахло не бывшим у меня сказочным детством и покоем.
В соседней комнате за закрытой дверью Анна Никандровна как будто с кем-то разговаривала. Я не разобрал ни одного слова, сколько ни прислушивался и провалился в лёгкий счастливый сон.
Мне приснилось, будто я лежу на облаке, а вокруг меня летает офисная мебель, компы, сканеры, принтеры и много разных смартфонов. Далеко внизу ясно виден центр Питера – Петропавловка, Стрелка В.О. Дворцовый и Зимний. Облако мягкое, тёплое и безопасное. Я свешиваюсь за край, рассматривая город, вдруг падаю вниз и лечу, стремительно набирая скорость. В момент столкновения с землей я проснулся. Всё произошло настолько быстро, что страха и боли я почувствовать не успел.
Стояла абсолютная тишина. Сквозь занавешенные полупрозрачным тюлем окна пробивался бледный серый свет раннего утра. Часы на смартфоне показывали 04.27.
Я выключил будильник, поставленный на 04.30.
Одевшись, я вышел на кухню умыться и нашёл там накрытый завтрак из горячей каши, овощного салата на душистом подсолнечном масле и почти пол-литровой кружки с горячим чаем из ароматных трав. На кружке был памятник «Родине – Матери» в Волгограде и надпись «40 лет Победе».
Тут же появилась Анна Никандровна в идеальной белой блузке, чёрной плиссированной юбке чуть ниже колен и новых чёрных туфлях на низком каблуке.
– Доброе утро, Андрюша. Кушайте и поедем. Я уже готова.
Необходимые для поездки вещи – два топора, лом, бензопила и канистра с бензином и маслом к ней, были в багажнике ещё с вечера. Анна Никандровна подала мне большую грибную корзину, набитую снедью в дорогу, а себе повесила на плечо дамскую сумочку на длинном тонком ремешке по моде начала 70х, но, видимо, почти не ношеную. На свой идеальный наряд она накинула длинную вязаную кофту—кардиган, светло-серую с большими малиновыми цветами неизвестного вида. Кофта была изрядно поношенная и сильно выбивалась из общего стиля. Поймав мой недоуменный взгляд, она сказала:
– Мёрзну. Старая стала. Да и люблю я её. Лет двадцать на уроки ходила в ней.
Около машины нас ждала Пеппи – дочка продавца Людмилы Оля
– Я с вами поеду.
– А мама в курсе? – спросил я на всякий случай.
Оля открыла дверь, подняла пассажирское сидение, протиснулась назад и уже оттуда ответила:
– В курсе.
Первые полчаса ехали по приличной дороге, пробитой Федькой до его делянки. Дальше пошло хуже. Дорога исчезла, то есть превратилась во вполне угадываемую, но всё же пешеходную тропинку, петляющую вокруг деревьев. Подминая кусты и ломая небольшие деревья «Нива» уверенно ползла вперёд на первой пониженной, переваливаясь огромными колёсами по неровностям почвы.
Иногда я выходил осмотреться и погружался в волну звуков утреннего весеннего леса. Листочки только начинали появляться, изумрудная зелёная трава проглядывала островками сквозь пожухлую прошлогоднюю и всё вокруг было такое живое и радостное, что хотелось закричать что-то или спеть.
В одном месте дорогу преграждала огромная, почти полуметрового диаметра осина, объехать которую не представлялось возможным. Я открыл багажник, достал бензопилу и дёрнул несколько раз за шнурок кик-стартера, как мне показывал вчера Федька. Пила не заводилась. Я уже начал немного паниковать, представляя, что придётся сейчас возвращаться обратно, обращаться за помощью и принимать её под снисходительные замечания деревенских жителей, как почувствовал, что меня легонько отодвигают в сторону. Оля, выбравшись из салона через открытую дверь багажника, подошла сзади.
– Дядь Андрей, Вы воздушную заслонку не перекрыли, она так на холодную не заводится, – затем выдвинула забытый мною рычажок в положение «закрыто», наступила кроссовком на корпус стоящей на пеньке пилы и легко дёрнула за шнурок. Пила тотчас послушно завелась, затарахтела, позвякивая на холостых оборотах и обдала нас запахом бензина и выхлопных газов, изгнавшим из леса атмосферу сказочности.
Я перепилил упавший ствол в двух местах и передвинул его ломом в сторону, освободив место для проезда автомобиля. Когда я вернулся за руль Анна Никандровна рассказывала Оле о своём детстве. Речь её была правильной, немного даже литературной.
–… ну в войну то уже коней не было. Пахали на коровах. Боронили на себе. Нас пятеро было, я самая младшая. У меня было четыре старших брата. Нам хорошо жилось. Работать любили все. У нас до войны было две коровы – Ночка и Зорька. Молока давали – по подойнице за раз, а это десять литров. При том, что хлебом коров не кормили. Никому и в голову такое прийти не могло. И комбикорма никакого не было. Сена накашивали вдоволь, хотя всё нелегально. Колхоз запрещал для себя косить, такие законы были…Но родители и братья косили – вечером, ночью после работы. Лужайки обкашивали в лесу, заливные луга у озера, куда подводой не въехать… Дружные были, работящие. А уж как меня любили…баловали…



