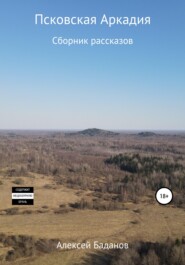 Полная версия
Полная версияПсковская Аркадия. Сборник рассказов
– Э, …хозяин, а ты чего делаешь то?
– Что не видишь? Водку пью.
На полу, между валенками действительно стояла открытая едва початая бутылка водки. Вторая – пустая лежала посреди комнаты на затертом домотканом половике. Пол блестел свежей коричневой краской.
– А ты зачем это…так…агрессивно её пьёшь? Может за столом, как все люди?
Вопрос был совершенно идиотский, но в той кафкианской, или даже скорее хармсовской обстановке спросить что-то ещё не пришло мне в голову.
– А ты, городской, садись. Мне с тобой покойней питься будет. А заодно я тебе и расскажу все. Удовлетворю, как сказать, любопытство.
Слово «удовлетворю» Ветеран произнёс слегка запинаясь, по слогам, и это было единственное, что выдавало в нем человека, по-видимому только что в одиночку выпившему пол-литра водки.
– Тебе уже про меня рассказали. – он домотал до конца рулон скотча, положил правой рукой на пол пустую бумажную катушку и взял открытую бутылку. Сделав изрядный глоток, ополовинивший емкость он не поморщился: если бы не характерный сивушный запах, по выражению лица пьющего, я подумал бы, что в бутылке – вода. Ветеран продолжил, – как я тут местных пугал, корову в подпол засунул и всякое такое.
Я сидел на крепком тяжелом табурете у кухонного стола и наблюдал как в два последующих глотка бутылка опустела. Он опустил её на пол между ног и положил правую руку на подлокотник, при этом две толстые замочные скобы пришли в движение и защелкнулись в замках.
– Ты, я так понимаю, решил деревенских от себя спасти таким образом? А может просто не пить, если не умеешь?
– А ты, блять, умелец. И все вы тут – умельцы, – Ветеран постепенно утрачивал контроль над собой. Он начал заметно нервничать и вдруг затараторил, —Так, городской, раз уж пришёл, слушай сюда. Я скоро уйду. Узнавать тебя не буду. Буду с чертями разговаривать. Точнее с этими, с чехами так их сука в душу мать ети. Тут слева под рукой моей два ключа…на шнурке, возьми. Правую откроешь. Когда обратно. Но не раньше шести. в Влтаву. в Влтаву её бросай… понял не раньше шести. и голову тоже… Симонюк, Симонюк, дай по окнам. В окне ствол…
Он на долго замолчал, склонив голову на грудь и как будто бы впал в забытьё. Меня вдруг разобрал совершенно неуместный в данной ситуации смех: я понял, что неожиданно оказался в положении Хомы Брута из повести моего любимого Николая Васильевича «Вий». Сняв с левого подлокотника ключи и положив их в карман, я решил провести ближайшие шесть часов здесь, чтобы иметь возможность освободить самозаточенного узника или оказать ему медицинскую помощь, буде таковая понадобится. Ассоциация с сюжетом повести Гоголя была не то чтобы совсем шуточной: поджарое мускулистое тело Ветерана, покрытое красновато-коричневатой кожей, внушало мне страх, как тело неведомого зверя. Когда он поднял голову и посмотрел на меня бессмысленно-мутным взглядом, мне захотелось начертить мелом круг и начать громко читать какую-нибудь святую книгу.
– Одходь! Одходь збране! …Сука, твою мать буду стрилэть! Стрелять буду в тебя, ебанько, ну куда ты хер старый с двустволкой на танк прешь? Одходь! Отверте двеже! …Суки да попрячьтесь же вы куда-нибудь…Отъебись…отъебись от меня карга старая,…перескочи! Да отцепись ты, блядь…И что блядь? Не трогал я твою внучку. …За какой двежей? Не знаю я никаких двежей, все пиздуй отсюда, не мешай движению колонны. …Что, блядь? Матерске злоаня? Что ты хочешь? …Э, старшина Старогородский, ты по-ихнему балакаешь? Спроси, что старая пизда хочет? Что такое матерски злоаня? Материнское проклятие? Ща ты у меня тут допиздишься, проклинает она. …Тоже развели контрреволюцию мать их ети. …Продались американским фашистам. А за вашу, блядь, Прагу мой отец кровь проливал. Что?!… Это я фашист? Ты, сука, советского солдата фашистом назвала? Наа, сука, наа! Марченко, Юшкевич, оттащите старую пизду в канаву, пока я её танком не переехал…на окна смотрим на окна…Средства пожзащиты… из окон могут кидать бутылки с зажигательной смесью. Как убили? Камнем с крыши? Зачистить дом! Петренко, Симонюк первый подъезд, Старогородский, Яковлев второй. По вооруженным – на поражение! … Как не пойдёшь? Куда ты, сука, Яковлев не пойдешь? … Во мудаак! Ой, мудаак! Ты же под трибунал. У нас же боевая. Под расстрел, мудила, пойдёшь! Не выполнил приказ, сука, командира! Какие на хер мирные люди? Твоего боевого товарища, сука, Яковлев, только что убили контрреволюционеры, булыжником с крыши ему пол башки снесли на хуй, и ты не пойдёшь отомстить? А когда мы тебя, сука всей ротой …ты тоже будешь мычать «мирные люди»?
Ветеран говорил, не меняясь в лице, короткими злобными отрывистыми фразами, глядя прямо на меня. К счастью сильно вырваться он не пытался. Так, немного ерзал на своём стокилограммовом троне, то пытаясь привстать, то наоборот вжимаясь в кресло. Ничем не закреплённые ноги часто имитировали шаги. Я понял, что валенки, а как выяснилось ещё и с толстыми шерстяными носками, он обувал, чтобы не очень пугать шумом соседей или прохожих на улице.
Подобные монологи повторялись множество раз не слишком отличаясь по содержанию. В перерывах Ветеран отключался, голова бессильно валилась на грудь, и он спал около получаса. Потом все продолжалось снова. Я подходил к спящему, чтобы удостоверится что пульс и дыхание в норме. Последний раз он отключился в 17.40 и проспал целый час. Я весь день читал прозу Алексан Сергеича: «Повести Белкина» «Арап Петра Великого и «Путешествие в Арзрум с военной экспедицией 1829 года» и начал «Капитанскую Дочку».
Ровно в 19.00 Ветеран посмотрел на меня изможденным, но разумным взглядом и сказал:
– А, городской. Не сбежал. Ну открывай меня, чай пить будем. Там в хлебнице на полке баранки свежие.
Немного провозившись с неудобно расположенными замками и срезав ножом скотч с левой руки, я освободил хозяина дома, глядя на него с некоторой опаской. Конечно я был в полтора раза крупнее и может даже не слабее его физически, но только что виденное мною безумие заставляло чувствовать себя неуверенно в присутствии неограниченного в движениях Ветерана. Я подумал: «Хорошо, что он не летал вокруг меня на стуле и не просил поднять его веки…»
Мы сели пить ароматный травяной чай с баранками за солидный, явно самодельный лакированный кухонный стол. При этом Ветеран легко одной рукой взял и беззвучно пододвинул под себя десятикилограммовый табурет, ножками которому служили бруски шириной в мою ладонь, что заставило меня усомниться в физическом превосходстве над хозяином.
– Слушай, а ты лечится не пробовал?
– В дурку-то? Нее. Из неё же не выпускают. Если там увидят, что ты видел сегодня – заберут навсегда.
Обращение Ветерана, мягкое, как у толстовского Платона Каратаева и его здравые рассуждения невероятно контрастировали с виденным мной пару часов назад. Я подумал, так уж ли фантастичен был Роберт Льюис Стивенсон, описывая своих героев.
– А где ты воевал то? Я про такую войну не знаю ничего.
– А не было её, потому и не знаешь.
– Это как так?
– А вот так. Воина это что? Когда армия против армии, ну солдаты с солдатами воюют. Ты, городской, в армии то хоть был?
–Нет.
– Ну тогда тебе этой херни не понять. Ну в общем был у них там, у чехов свой Брежнев. Александр Дубчек звали. Все честь по чести, генсек ЦК КПЧ. Ну и чего-то они с нашим Брежневым не поделили. Уж я не знаю там их эта херня-мурня, в общем политика. Ну и наши, как положено, решили его снять. Ну не сдавать же такую страну америкосам. А ЧССР была наша республика. Не как сейчас. Тогда все республики были: и Украина, и Беларусь, и казахи, и эстонцы, и узбеки, вот и чехи тоже значит – ЧССР. Я в десантуре служил под Одессой. Нас за неделю перекинули в ГДР, а потом в Прагу. При чем ведь не сказали ничего, куда летим, зачем. Просто: обеспечить беспрепятственное прохождение механизированной колонны. Только когда сели уже, объяснили, что вооруженным людям надо говорить «одходь збранне» – это бросай оружие по-ихнему. Мы солдата то ни одного и не видели. Так, мужики выходили кто с вилами, кто с топором, кто с двустволкой. В городе хуже было – бросали в нас сверху всякую херню. И лопаты, и утюги такие старые, чугунные. У меня другана камнем убило. А у нас приказ. Из какого дома бросят – идём зачищать. На зачистку дома – 5 минут, что б не задерживать продвижения. И что мы? За 5 минут будем все квартиры обходить? Ну примерно прикинем откуда бросили, подходишь к двери, звонишь, стучишь, мол «отверте двежи». К двери подходят, я сквозь дверь – очередь и в следующий дом. Но это не часто было. Чехи узнали и из домов кидаться перестали. А эту девчонку – она меня больше всех достаёт – я вообще не трогал. Она посреди Чехова моста лежала. Так по диагонали, а голова чуть в сторонке, – когда он сказал это его взгляд чуть потускнел и я испугался не впадёт ли он опять в галлюцинационное неистовство. Он заметил мой испуг и сказал, – Да я – ничего. Я – нормально. —из глаз его выкатилось и упало в чай несколько крупных слезинок. – Когда на мост въехали, я вообще подумал, что это тряпки какие или мусор. Нам чехи все время на голову мусор вываливали… А это труп. Кто ее убил, зачем, до сих пор не знаю. Но у нас приказ, разбираться некогда. Ну и скинули мы ее с моста в реку. И голову туда же. А её бабка видела. Она в начале моста стояла и видела все. Встала перед моим БРДМ и не пускает. Ещё фашистом меня назвала. Ну я её и отодвинул… прикладом. Так в сторону… чтоб не мешала. Ну и бабка меня перекрестила не по-нашему, справа на лево, плюнула и прокляла каким-то «матерским» проклятием. Так теперь девчонка эта приходит и одну фразу говорит: «Найдете а похжьбу». Я уже в словарь слазил: «найди и похорони» значит. А где я её найду. 32 года прошло. И кто меня вообще теперь туда пустит?
Посидели молча допивая чай.
– Слушай, Ветеран, я бы тебе в Питере и психиатра нашёл хорошего по знакомству. Но ты может сходи пока к священнику. У меня тут знакомый служит недалёко, километров за 40.
– Я попам не верю, – резко перебил меня Ветеран. – прохиндеи они все: пузо нажрут в девок портят.
– Слушай, ну этот я точно могу сказать – худой. Даже я бы сказал, тощий. Да и по девкам тоже. У него жена с меня размером будет. Я думаю если с девками нашего батьку найдёт – переломит об коленку обоих. Отец Андрей зовут. Можешь сказать, что я послал. А можешь и не говорить. Он тебя и так выслушает, и поможет чем сможет.
– Худой говоришь? Ну может съезжу. Вот тебе колодец выкопаю и съезжу. Я тебя помню, городской. Ты ведь за колодцем приехал?
Колодец мне Ветеран выкопал отличный. Начал экскаватором, закончил саперной лопаткой.
Я до сих пор, по прошествии 19 лет пью оттуда свежую студенистую воду.
До отца Андрея он так и не доехал, и вообще отказался от всякой помощи, сказав, что сам все решит.
Следующей зимой Ветеран пьяный замёрз насмерть в лесу в 500 метрах от собственного дома.
Мне кажется он был простым хорошим человеком, искалеченным советской политической машиной.
Я верю, что его простила безвинноубиенная пражская девочка.
Псков, лето 2000—Прага, апрель 2019.
Море виде и побеже.
Посвящается С.Б.Ч.
На святках регент Боренька ушёл в астрал. Он с истовой ревностью провёл рождественский пост, вкушая растительное масло по воскресениям и смочив ржаную корочку в томатной крови консервированных бычков после литургии Введения, чем был невероятно горд, аж светился. Узнав, что певчая Марковна заходила в «Макдональдс» и там оскоромилась, не пускал её на клирос и уступил только ея слезам и прямому указанию отца настоятеля, в котором было много непроизнесенного мата.
Возлетеша высоко, на третий день праздника Рождества Боренька пал. Будучи по сути своей Old Rocker – тем самым, из песни «Джетро Талл», который слишком стар для рок-н-ролла и слишком молод для того, чтобы умереть, он в юности первоначальной не выходил из изменённых состояний сознания несколько лет, и теперь эта скрученная церковным уставом пружина время от времени давала обратный ход. Причём происходило это всегда неожиданно для Бореньки, как правило, когда он находился в благостном расслаблении и чувствовал благодать.
Вот и тогда, в третий день праздника, Боренька сидел в уютном кресле-качалке перед открытой топкой печки – «голландки» в своём доме, на краю большого псковского села.
Он находился одновременно в трёх измерениях. Во-первых, глядя на пламя, он воображал, что он лорд, а это камин (ну примерно, как в гостиной Холмса-Ливанова).
Во-вторых, из метровых колонок акустической системы АС 90, подключённых к виниловому проигрывателю, голос Дэвида Боуи уносил его в космос, где он был уже Майором Томом, покидающим свою capsule, зная, что не вернётся обратно.
И, в-третьих, в руках у него был «Древний Патерик или Жизнеописания, изречения и изрядные случаи из жизни святых и достославных отцов». И в этом измерении он пребывал уже многие десятилетия в Нитрийской пустыне, «не зря лица человеча».
Время было уже по деревенским меркам позднее, около 10 вечера и Боренька собрался было закрыть дверь на тяжёлый кованый крюк – гостей не предполагалось. Он уже встал, как вдруг в кухню, являвшуюся одновременно прихожей, кто-то вошел. Пахнуло морозом и перегаром, позвали Вальку.
–Здесь нет никакого Вальки! – отвечал возмущённый Боренька.
– А это Камышино? – спросил его стоявший в дверях мелкий мужичонка. Он был одет в солдатскую шинель до пят, перевязанную вместо ремня шпагатом и грязную бейсболку с буквами NY на лбу. Из-под пол шинели выглядывали красные сапоги – «дутики» из 80х.
– Нет, это Поддубье. До Камышино ещё километров пять.
– У, ёп…– ответил Валькин друг, одним движением достав из карманов шинели бутылку водки и гранёный стакан. – На вот, выпей, гуляю я, свободимши.
Он зубами вынул из бутылки скрученный кусок газеты, игравший роль пробки и плеснув две трети стакана протянул Бореньке.
Случилось непоправимое.
Рефлекторно, ещё до того, как подумал, что он делает, Боренька влил содержимое стакана в себя.
Майор Том отправился в открытый космос без скафандра.
Зная, что его будут искать, Боренька отправился в Magic and mystery tour. Волшебным и таинственным путешествием он называл двух-трёх недельный загул по алкогольным «малинам» города Пскова, где вычислить его было почти невозможно.
Так было и в этот раз. Предпринятая отцом настоятелем спасательная экспедиция результатов не дала, оставалось дожидаться возвращения блудного сына, чтобы заклать тельца упитанного.
Возвращение случилось на девятый день. Праздник Богоявления Господня был отслужен, Иордан в проруби на речке Петелке, обтекавшей село с трёх сторон, освящён и желающие даже окунулись в него, несмотря на двадцатиградусный мороз. Мы сидели в просторной трапезной и вкушали чаю с пряниками за неторопливой беседой, когда в окно, как раз напротив кресла отца-настоятеля аккуратно постучали. За окном был чёрно-синий вечер и стучавшего было не видно, но то ли интуитивно, то ли по характеру стука, некоторые из присутствующих поняли кто стучит и переглянулись. Настоятель, отец Евгений, отставной десантник псковской дивизии, человек суровый, но добрый, повернулся к окну и спросил:
– Аминь?
– Достойное приемлю по грехом наю! – ответили из темноты недовольным запинающимся голосом.
– Так заходи, Боренька, не мёрзни, – сказал отец Евгений окну.
– Согреших, бо Господи. Согреших на небо и пред тобою. Несть достоин рещися регентом твоим…– проскулило окно уже жалобно
– Сыны царствия извергахуся во тьму внешнюю. Ту будет плач и скрежет зубов…– промолвил отец Евгений с сожалением
– Выйди ко мне отче, занеже весь пуст и пался есть…
Отец Евгений с шумом отодвинул кресло и пошёл «во тьму внешнюю» на переговоры.
Последние были непродолжительны и протекали в привычном обоим сторонам русле. Внутри было слышно, как Боренька громко всхлипывал, а отец Евгений повторял: «Ну, ну, ну… ну, ну, ну».
Наконец Боренька был введён в трапезную «под белы ручки». Вид его был ужасен и комичен одновременно. Одет он был в огромного размера овчинный тулуп мехом внутрь, сшитый накладными чёрными стежками из почти необработанных шкур. Тулуп он надел на голое тело, запахнул его как халат и подпоясался электрическим проводом с вилкой на конце. На ногах были обуты сильно изношенные валенки. Из правого торчал большой палец ноги, а из левого голая пятка. На голове – шерстяная шапка «петушок» коричневого цвета с зелёным кленовым листом и словом CANADA. И лицо – о, Господи! Что это было за лицо! Лик его был иконописен и обезображен кровоподтёками и синяками под глазами и на скулах. В щёточку усов под носом вмёрзли кровавые сопли. Длинная узкая борода свалялась и приобрела паклеобразный вид. Взгляд глубоко посаженных глаз пронизывал вечность. Боренька был природно худ, но сейчас мог играть в кино жертву Освенцима.
Войдя, он тотчас пал на колени и истово поклонился большой тарелке с пряниками, стоявшей на столе, после чего повернулся к иконам и медленно наложил на себя крест дрожащей правой рукой, поддерживая её левой. Отец Евгений погладил Бореньку по съехавшему на бок «петушку» и велел запрягать лошадь.
– Омывать будем, – добавил он.
И вот, в сказочный крещенский вечер в церковном дворе собрались четверо: отец настоятель, покормленный и умытый Боренька с парой промилле в крови, ваш покорный слуга и старый конь Орлик, впряжённый в дровни, немного загруженные сеном для тепла и подкорма. Звёзды в глубоком чёрно-синем небе сверкали как бриллианты или софиты далёкой надмирной сцены. Мороз был хорошо за двадцать.
Собравшись ехать, Боренька прилёг на сено и был укрыт заботливой рукой отца Евгения ватным стёганным одеялом, отчего сразу стал похож на боярыню Морозову с известной картины художника Сурикова. Мы уселись по краям. Орлик тотчас тронулся повёз нас в направлении Иордани никем не понукаемый и не управляемый.
– Отче, а откуда он знает куда ехать? – спросил я, увидев, что вожжи намотаны на оглоблю.
– Старый конь. Мне иногда кажется, он больше нас знает, – философски отвечал отец Евгений.
Ехать надо было минут десять и стремительно трезвеющий Боренька для храбрости решил петь. Вообще он был музыкально одаренным и имел неплохой тенор широкого диапазона, но сегодня у него получалось не очень. Начал он с откорректированной сообразно требованиям церковного благочестия «Песни про подмогу», которую отец Евгений, прошедший «горячие точки», тоже любил. «А подмога не пришла, подкрепления не прислали…» – начал он глухим дрожащим голосом из-под одеяла. Орлик повёл ушами, скептически оглянулся и фыркнул. «Вот такие брат дела, нас с тобою…обманули». Полозья скрипели, дровни неспешно переваливались по неровной дороге. Вдали светились деревенские огоньки. Подтянулся морозным баритоном отец Евгений: «Пушка сдохла, всё, конец, больше нечем отбиваться, так закурим, брат боец, нам от смерти не…смотаться, а подмога не пришла-а-а....»
Показался берег реки, выехали на лёд. Впереди чёрным на белом снегу зияла крестообразно выпиленная полынья. Пока мы с отцом Евгением работали кайлом и лопатой, освобождая её от намёрзшего за день льда, Боренька в санках подвывал: «Planet Earth is blue and there's nothing I can do …», а Орлик хрустел брошенной к его ногам охапкой сена.
Наконец полынья была освобождена, и мы с отцом Евгением затянули на два голоса: «Во Иордане крещающася тебе Господи…» «Т-т-троическое яв-в-вися пок-клонение», – присоединился к нам обнаженный Боренька, скинувший тулуп в санки и оставшись в одних дырявых валенках. «Родителев бо глас свидетельствоваше тебе», – продолжали мы, жестами приглашая Бореньку поспешать. «Воз-з-з-любленного тя с-сына именуя», – отвечал он нам, постепенно приближаясь к проруби. «И дух в виде голубине извествоваше словесе утвеждение», – Боренька подошёл к краю и вдруг резко, как футболист, бьющий по мячу, скинул один за другим валенки. Мы встали справа и слева и взяли его за руки. «Явлейся Христе Боже» заорал уже благим матом Боренька и сиганул в чёрную воду. «Во имя Отца – аминь», – голос отца Евгения был ровным и спокойным, как на службе. «А-а-а! И мир просвещ- бр – буль!», – орал появляющийся над водой Боренька. «И Сына – аминь». «Слава Тебе! А-а-а!» «И Святого Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков – аминь.»
Мы вытащили Бореньку и поставили его на сено рядом с прорубью. Пока я искал и отряхивал закинутые им в сугроб валенки, Боренька стоял, обняв Орлика и прижавшись к его тёплому крупу. Конь опустил голову ему на плечо и, казалось, что-то шептал на ухо. Отец Евгений надел на Бореньку тулуп и нарыл его одеялом.
– Уф, жарко стало, сказал Боренька, забираясь в дровни. Как только мы сели, Орлик оглянулся, кивнул и зашагал в сторону дома.
Обратно ехали молча и каждый думал о своём.
Было уже около одиннадцати вечера и огни в деревенских домах один за другим гасли. Во всей вселенной вокруг разлилось умиротворение. Мир готовился к новому дню. Я услышал за спиной прерывистый храп и обернувшись увидел, что Боренька спит в позе эмбриона, укрывшись с головой одеялом.
«Слава в вышних Богу и на земли-и-и мир, в человецех бла-а-говоление…» – звучало где-то высоко-высоко, под самыми звёздами.
Псков, январь 2016.
Скорая помощь.
Был ясный жаркий июльский день с бесконечной высью безоблачного синего неба.
Я приехал погостить на пару дней к давнему приятелю – иконописцу Юре в деревню, затерянную среди лесов и заболоченных речушек Шелонской пятины. Посреди деревни, вестником былого величия белел храм, выстроенный в традициях классицизма и изрядно контрастировавший с десятком покосившихся изб, слепленных в первые послевоенные годы «из того, что было».
Населяли деревушку в основном летние питерские дачники, местными были только две древние старушки, символично поселившиеся в первом и последнем доме, за что Юра называл их Альфа и Омега.
Неподалёку от храма, среди высоких разлапистых тополей и ёлок, составлявших когда-то часть усадебного парка, сохранилась церковная сторожка из красного кирпича, построенная «во время оно». По прямому назначению теперь она не использовалась и была отдана Юре на лето в качестве мастерской, в которой он и жил. К ветхому кирпичному прямоугольнику с северной стороны была пристроена дощатая веранда, окна которой были выставлены по причине летней жары, а оконные проёмы затянуты зеленой антимоскитной сеткой. В веранде стояла гостевая пружинная кровать, занятая мною и грубо сколоченный стол. Вместо табуреток использовались широкие березовые пни.
Было около полудня, я только встал, а Юра, начинавший работать вскоре после рассвета, готовился к обеденному перерыву. Пока же мы пили травяной чай, собранный и насушенный Олимпиадой Никаноровной – «Альфой», из толстых глиняных кружек и рассуждали о высоком.
– Вот скажи, Саш, что ты думаешь о «господдержке» в распространении православия и нравственном преображении мира? – Юра подул на горячий чай, удерживая кружку двумя руками,– Вот была церковь апостольская, гонимая. Она была маленькая, но честная. Быть христианином не то что не сулило никаких земных благ, а было смертельно опасным делом. Три века она расширялась, распространялась и наконец христианином стал император Константин. При нём идея стала государственной и начала выхолащиваться. Но при этом распространилась государственными средствами на весь цивилизованный мир, преобразила цивилизацию. – он сделал изрядный глоток и замолчал, ожидая моего ответа.
Я и сам много думал об этом, но прийти к окончательному решению не мог.
– Подумай пока, я сейчас. Кисточки забыл замочить. Засохнут.
Юра встал, открыл висевший на стене деревянный шкафчик, достал оттуда советского времени граненый стакан и коричневую бутылку с надписью: «Ацетон ЧДА». Стакан он поставил на стол рядом с чаем, налил почти до краев ацетона и ушёл в мастерскую за кисточками.
«Конечно в Евангелии сказано однозначно – кесарю-кесарево, – думал я, но история не терпит сослагательных наклонений, всё уже произошло, как произошло. Среди патриархов и государственных деятелей были и святые и преступники и больные на голову и непонятно кого больше. Пожалуй, я склоняюсь…»
Ход моих рассуждений был прерван грохотом у меня за спиной. Я увидел округлившиеся глаза Юры, выходящего из мастерской на веранду с десятком измазанных краской кистей в руке, и обернулся.
Дальнейшее я видел, как бы в «слоумо», но от неожиданности не сообразил, должен ли я что-то сделать.
Грохот был вызван тем, что дощатую дверь веранды открыли пинком ноги. Открывший – худой измождённый мужчина средних лет с безумным взглядом в чёрном пиджаке из кожзаменителя на голое тело, рваных красных спортивных штанах с отдельно висящими сбоку тремя белыми полосками и в новых лакированных туфлях на босу ногу – сделал три длинных замедленных прыжка и приземлился перед стаканом, на котором и был сфокусирован его взгляд.
Всё произошло так быстро, что Юра успел только сделать некий неопределенно-запретительный жест, а я сидел на своём березовом пне и не понимал, что происходит.

