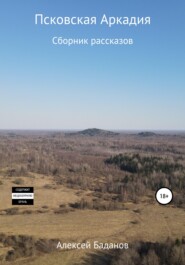 Полная версия
Полная версияПсковская Аркадия. Сборник рассказов
– Баб Ань, а как сушили?
– Что?
– Ну как сушили сено? Если ночью косили для себя, днём в колхозе работали. Сено то само не высохнет.
– А на вешалах, дочка. На вешалах сушили. Папа ставил за домом вешала – это как…каркасы такие из жердей. Скощенное сено на веревке охапками приносили и развешивали. Оно и сохло.
– Уу, понятно…
– Отца-то забрали ещё на финскую. Потом он дослуживал уже. Написал, что в июне отпустят. Мы его очень ждали, особенно мама. Они с папой очень любили друг друга и жили дружно. Я не одного бранного слова дома не помню. Вообще никто из родителей голос не повышал, ладом всё шло. И братья тоже все сильные, спокойные. Старший – Николай – 26-го года рождения, потом Пётр – 27-го, Фёдор – 29-го, Алексей— 32-го. Они и по хозяйству всё умели и по плотницкому, и по столярному. Всё могли. Папа то был на деревне первый столяр и плотник. У него весь инструмент был свой. Он в колхозе за трудодни делал сани и телеги…
– Баб Ань, а за трудодни это как?
– Это была такая система оплаты труда. Платили зерном или крупой, или картошкой. По нормативам. Например, один трудодень – десятину пуда ржи. Или восьмушка картошкой. А пуд – 16 килограмм.
– А деньги?
– Что деньги?
– Ну деньги, зарплату в колхозе сколько платили тогда?
– А нисколько, дочка. Деньги после войны стали платить, да и то не скоро. Уже после Сталина.
– А в магазин как ходить?
– Да не было дочка магазинов в деревне. И ходить не куда. Всё сами делали. Ткали, шили. Мама шить хорошо умела. Ну по осени на клюкву ходили, как вы сейчас. Папа возил клюкву на базар, продавал. Ну ещё папа по-столярному мог: стол сделать или стул, или шкаф даже. Ему за это платили кто чем. В основном продуктами, иногда вещами, но деньгами редко. Не было денег у людей. Но нам всего хватало. И сыты были и обуты -одеты…
– А папа вернулся, баб Ань?
– Нет, дочка, папа не вернулся. Его с финской погнали на Отечественную. Он даже до фронта не доехал. Под Смоленском их эшелон разбомбили, и он погиб. Только мы тогда не знали об этом. Это я после войны всё разузнала, когда стала паспорт выправлять. А мама всё говорила нам: «Вот Никуша придёт с войны и заживём».
Мы почти сразу под оккупацию попали. И сначала неплохо жили. Колхоз разогнали, косить и сажать стало можно где хочешь. Деревня у нас и тогда уже была глухая, так постоянно немцев у нас не было. Проведать заезжали, документы проверить, порядок свой показать. Корову забрали у нас одну, сказали на военные нужды. А вторую оставили. И эту то не совсем забрали, а как бы попользоваться. Расписку написали, обещали после войны вернуть. Заплатили 10 марок. Но это очень мало было, не купить ничего.
Мы ехали по тропинке уже часа полтора. Несколько раз за это время мне пришлось задействовать свой инструментарий, обрубая мешающие проезду сучки, перепиливая и откатывая в сторону стволы упавших деревьев и периодически вытаскивая из топких мест застрявший автомобиль электрической лебёдкой, укреплённой на силовом бампере.
Каждый раз, возвращаясь в салон после гераклического подвига, позволявшего нам двигаться дальше, я заставал своих спутниц оживлённо беседовавшими и узнавал всё новые и новые фрагменты истории жизни Анны Никандровны.
… а что дом? Дома я другого не хотела. Так и промыкалась всю жизнь по углам, пока в 85 году эту квартиру не дали, где я сейчас живу. А так у тётки Клавдии – угол, в общежитии – комната на шестерых. Как сюда вернулась, с 57-го по 70й в прямо в школе и жила. Комнату дали. Да и хорошо было – проснулась и на работе. Потом, в 70м школу старую, деревянную сломали и поставили кирпичную, новую, побольше. Только в ней места мне не хватило уже. Сказали нельзя. Не предусмотрено нормативами…Меня пустила к себе одинокая женщина – Татьяна Федоровна – напротив школы жила. Пустила на день два перекантоваться, когда шабашники приехали старую школу ломать, а меня не предупредили. В районо и райисполкоме решение о сносе приняли, а до нас «не довели».
Летом это было, в начале каникул, хорошо я в отпуск не ушла ещё, а то так бы и разобрали всё с моими книжками…В общем мы с Татьяной подружились и осталась я у неё на 15 лет. Я бы и потом не съехала, да только умерла она. Тихо так, как жила. В воскресение съездила в церковь в райцентр, причастилась. Наша то закрыта была тогда. Попросила баню стопить. Помылась, напарила я её хорошо, она парится любила. Крепкая была, хоть и на девятом десятке. Легла спать и умерла. Я утром пришла к ней в комнату, а она улыбается и не дышит…
Тропинка пошла вниз и вскоре впереди сквозь неровный частокол ольхи и осины показалась ярко синяя гладь озера. Как и обещал мой тёзка, мне действительно предстояло проехать метров сто по воде вдоль берега. Лес перерезал глубокий обрывистый овраг с журчащим по его дну ручьём и спуститься вниз, а уж тем более выехать обратно было невозможно.
Анна Никандровна подтвердила, что вдоль берега всегда шла насыпная дорога, которую местные жители крепили гатью и даже устанавливали что-то вроде дорожных столбов по наружной её стороне, остатки которых ещё торчали немного из-под воды. Произведя пешую разведку, я решил, что деваться некуда, нужно ехать «по воде, аки по суху», как назвала этот способ передвижения моя главная пассажирка. До самой сожжённой деревни оставалось километра три. Она находилась на вершине довольно высокого пологого холма на противоположенном берегу озера и была отлично видна нам.
Когда я вернулся в машину я услышал следующее:
– Здесь на озере две деревни было. Там Глубокое, а чуть правее того места, где мы из лесу выезжали – Торбыши. Там земля похуже и как-то повелось что там хуже жили – голытьба одна. Торбышинские в коллективизацию сразу сами и в колхоз пошли – «Красный путь» назывался. Наши то до последнего держались, уже когда из райцентра с наганами приехали и две семьи увезли – поминай как звали, только тогда зашли. А как немцы пришли – так многие торбышенские в полицаи подались.
– Баб Ань, а глубокинские – в партизаны?
– Нет, дочка, Из нашей деревни никто в партизаны не пошёл. Мужиков то и не было – подростки да старики. Но партизаны были в лесах этих. Разные были. Бывало повоюют, а бывало и пограбят. Человек с оружием, когда сам себе хозяин – сатанеет. Ни страха не знает, не совести.
Мы без труда проехали по утонувшей дороге, не погружаясь глубже ступиц. Выехав снова на берег, я вышел осмотреться.
Когда я вернулся, Анна Никандровна молчала. По щеке катились слёзы.
– Дом то у нас был самый лучший – пятистенок, папа мебель хорошую сделал. Уютно было, хорошо. Не обшит был, просто брёвна, так мне всегда казалось, что брёвна тёплые. Я на лавке любила спать, на кухне. Прижмусь щекой к стене и думаю, как всё хорошо вокруг. Вот папа с братьями дрова колют, а мама стряпает, а у Зинки—подружка у меня была, собака ощенилась. Так и засыпала.
На краю нашей деревни вдова жила – Тоня. У неё мужа ещё до войны на лесосеке задавило. Двоих деток растила – Колю и Машу. Красивая была, видная. К ней сватался мужичёк один торбышевский, Венькой звали, не знаю, может Вениамин полное имя. Бобыль, да и в летах, она и отказала. Под немцами главным полицаем стал, хотя партейный, но скрыл как-то. Стал он снова к нашей Тоне захаживать, мол тяжело одной, помогу. А у Тоньки-то этой помощник уже и так был. Офицер немецкий. Молодой, статный. И к ней, говорят, серьезно отнёсся – мол увезу, женюсь, будешь майне фрау.
Так вот этот Венька подкараулил жениха Тониного, когда тот вечером от неё уходил – а немец приличный был, на ночь никогда не оставался, и застрелил его из кустов в спину. И сам же первый побежал докладывать, мол в Глубоком партизаны убили офицера. А наши то видели, как всё было, только их не спросил никто.
Приехали назавтра – тьма тьмущая – на броневиках, на мотоциклах, грузовиков с солдатами штук пять. Собрали всех на краю, как раз напротив Тониного дома. А невдалеке – торбышевских поставили. Смотреть. Венька то этот впереди всех стоял. И объявили: так мол и так, за убийство офицера и помощь партизанам деревня подлежит уничтожению. И объявлял-то тоже наш, русский, не местный правда, не знаю откуда.
Я потом думала. Нам бы в этот момент бежать. Лес рядом, кто-то бы точно убежал. Немцы то стояли основные чуть в сторонке. Никто нас на мушке не держал. Перед нами офицер, два солдата с винтовками на плече, да русский этот, в форме, но без оружия. А все как одеревенели. Не поверили. Как будто не про нас это вовсе или в шутку. Сейчас мол подмигнут и уедут. Не уехали.
– Вот здесь как раз стоял овин колхозный. – Мы только начало взбираться на поросший ивняком холм, выбравшись из леса. —Туда нас всех и загнали. Когда заходили, женщины, дети плакали уже. Сопротивляться начал только Коля мой. Ему почти восемнадцать было, здоровый был парень, красивый, в отца. Ударил немца одного, с ног сбил, да куда там, навалились, закинули к нам в овин со свернутым на бок носом. Дверь закрыли, заложили засов снаружи. Такой деревянный брус в две кованные скобы вставлялся, вместо замка....
Голос Анны Никаноровны не дрожал, но в этой части своего рассказа она говорила медленно, с большими паузами между словами, четко произнося каждый звук. Я почувствовал, что она снова переживает эти страшные минуты. Мы въехали на самую вершину холма и остановились, наверно, где-то в центре деревни. Я заглушил автомобиль, открыл дверь. Несмотря на яркое солнечное майское утро, стояла звенящая, оглушающая тишина. Или в этот момент я не мог ничего слышать, кроме голоса рассказчицы.
–…мы слышали, как два солдата о чем-то переговаривались по-немецки, обходя наш овин вокруг и поливая стены бензином. Они, кажется, шутили. Я запомнила, что один из них нервно смеялся высоким, на грани фальцета, голосом… Вообще все ощущения, обострились. Я чувствовала резкий запах трав, запах ветра, леса, запах воды нашего озера, запах чуть сырой земли у нас под ногами, пахли нагретые солнцем брёвна, бензин. Я ясно слышала все звуки внутри и снаружи. Вой, плач, проклятия, молитвы не сливались для меня в гул, а были отдельными голосами. Я стояла, привалившись к стене и ясно видела всё, что происходит даже в дальнем конце овина. Окон не было, стоял полумрак, но многочисленные щели на уровне застрехов, это где крыша и стропила нависают над стенами, давали какое-то количество света. Было яркое солнечное июльское утро. 21 июля 1943 года. Мне 16го февраля исполнилось 9 лет.
Нас было примерно человек сорок, стар и млад. Среднего возраста женщины, может восемь или десять. Поначалу, как нас загнали и двери закрыли, все сгрудилась тут же, стали стучать, кричать «Откройте!». Потом разошлись по семьям. И рыдали, и матерились, и молились, кто-то просто молчал, уставившись в одну точку…Это всё не долго было… это я рассказываю долго. А так – минут пять. И потом нас подожгли…
У нас старик был Филипп Фомич. Тихий, добрый. Свистульки нам резал, да куклы из соломы делать учил. Он охотником был и как-то попал в свой капкан, мы его потом долго дразнили: «Дядя Филипп к медведю прилип».
Так вот, как дым пошёл внутрь, дядя Филипп сказал: «Тихо.» Спокойно так сказал, не повышая голоса. Но все его услышали и замолчали. Как-то успокоились.
А дядя Филипп говорит: «Православные, ну, значит, сейчас умирать будем. Что кричать-то? Давайте простим друг дружке кто чего…это…вольная, значит, и невольная. Попрощаемся по-людски. Свидимся нет – Бог знает…Я вон, Тонь, у мужика твоего зайца раз из капкана вытянул, до войны ещё. Жирнющий был заяц-то. Меня бес и попутал, так что прости меня, Тонь, за него прости…»
Все послушали дядю Филиппа, стали прощаться, прощения просить. Всё равно рыдали в голос и уже и парни, и старики, про женщин и девок не говорю. Да ещё и кашляли – дым пошёл сильно, кое-где у крыши и сквозь двери огонь пробиваться начал.
Коля мой старший подбежал ко мне, нос набок, весь в крови, но взгляд решительный, схватил меня как мешок на плечо и говорит братьям: «– Петька, Федька! Вставайте в угол, я к вам на спины влезу!»
Он меня, когда через плечо перекинул, я глазами встретилась с Зинкой. Она стояла за маму держалась и на меня смотрела. И я сказала ей одними губами: «Прощай». И она мне также: «Прощай».
Коля встал к братьям на спины, выломал из застреха широкую, уже сильно горящую доску и бросил меня сквозь огонь наружу, крикнув: «– Анька, беги!»
Я в тот момент даже не поняла ничего. Упала у самой стены, меня обдало жаром, я вскочила на ноги и встретилась глазами с немолодым немецким солдатом. Он сидел в коляске мотоцикла, перед ним был пулемёт.
Я видела, как он прицелился в меня и почему-то знала, что он не промахнется. Да и как промахнуться с тридцати метров в приличного размера мишень человеку, который каждый день тренируется, который каждый день занят тем, что выполняет эту ответственную работу – не промахиваться.
Лицо его исказилось в дикую, отчаянную гримасу, губы зашевелились, наверно он поливал отборным немецким матом все обстоятельства, что привели его сюда, или твердил имя такой же белокурой девятилетней Греты или Марты, что ждала его где-нибудь в Саксонии, но он резко дёрнул ствол пулемёта вверх и дал длинную очередь по крыше горящего овина.
Всё это время я бежала, остервенело срывая с себя горящее платье, пробежала в трёх шагах от пулемётчика и скрылась в лесу.
Меня, кажется никто не искал. Во всяком случае погони я не заметила. До тётки я шла два дня, не выходя на дорогу и минуя деревни. Ночью следующего дня я постучала тихонько в окно к тётке Клавдии. Она даже не спросила кто, будто всё знала.
Обняла меня крепко, прижала и мы вместе заплакали.
Анна Никандровна надолго замолчала, откинулась на спинку, закрыла глаза.
Я сидел, вжавшись в сидение, ошеломлённый, раздавленный рассказом. По моему лицу последние полчаса непрерывным потоком текли слёзы. Оля тихонько всхлипывала, уткнувшись мне сзади в плечо.
Минут через десять Анна Никандровна открыла дверь.
– Вы тут, ребятушки побудьте немного, я пройдусь по деревне. Мне одной надо побыть.
Слёзы уже высохли у неё на лице, оно приобрело обычное открытое, доброжелательное выражение.
Она захлопнула за собой дверь, оставив нас наедине с её воспоминаниями. Звуки майского утра вернулись. Шелестела трава, молодые листочки. Голубая чашка озера поблескивала в утреннем солнце. Возвращаясь к привычному кругу своих мыслей, я сразу понял…что я к нему не вернусь. Во всяком случае в прежнем своём состоянии. Рефлекторно я достал из кармана смартфон, хотел проверить мессенджеры и социальные сети, но увидел в левом верхнем углу: «Нет сети».
Обернувшись назад, я увидел, что Оля спит на заднем сидении, свернувшись клубочком. Я тоже опустил немного спинку и задремал.
В полудрёме я вновь и вновь видел несущуюся с холма к озеру сквозь кусты подлеска худенькую детскую фигурку. Исцарапанную, обожженную, испуганную и одинокую, но живую. Живую!
Горящую на холме над озером деревню. Сгорающих заживо в овине людей. Мужчин и женщин. Таких же как я.
И других мужчин, и женщин. Которые смотрели на это. Испуганных, озлобленных. Но в глубине радующихся, что они живы…
И ещё других мужчин. В форме, с оружием. Просто делавших свою работу. Иногда с энтузиазмом. Иногда с проклятиями, что работа слишком грязная.
Какое многослойное существо – человек. Бог, зверь и камень.
Наверно, если жить ради удовольствия, стать зверем очень легко.
Но всегда есть шанс попробовать вернуться обратно.
Как у пулеметчика.
Я посмотрел на часы и решил пойти поискать Анну Никандровну, ушедшую уже почти два часа назад.
Тихо вышел из машины, не хлопая дверью, чтобы не разбудить спящую сзади Оли.
Я пошёл по её следам, ясно видимым в примятой высокой траве. Приглядываясь и отыскивая, где она прошла, я скоро стал различать и местонахождение домов, и планировку улицы.
Вот совсем маленький домик с пристроенным хлевом, а вот побольше, но хлев отдельно.
Я так увлёкся разгадыванием археологических тайн, что едва не прошёл мимо большого дома, почти в центре деревни. Вот он. Пятистенок. В углу бывшей комнаты, едва обозначенной заросшими крапивой и бурьяном буграми, справа от входа лежала Анна Никандровна. Она смотрела в небо и улыбалась счастливой мудрой улыбкой человека, достигшего своей цели. Я бросился к ней с вопросами:
– Что с Вами? Вам плохо?
– Что Вы, Андрюша? Мне хорошо. Я дома. Я нашла свой дом.
Закрыла глаза и выдохнула.
Я медленно и благоговейно опустился перед ней на колени. Взял тёплую руку, попробовал нащупать пульс. Пульса не было.
Уже после этого губы её зашевелились и мне показалось, что я ясно различил, что они произносят приветствие и имена: Лёша, Федя, Петя, Коля, Папа, Мама. И ещё кажется: Зинка, привет…Или это был ветер.
Я сидел на коленях перед телом Анны Никандровны, держал её руку в своей и плакал. Не столько о ней – о человеке, нашедшем свой дом, сколько о себе.
Ничего не сделавшем. Или сделавшем совсем не то, что было надо. А что было надо?
Я смотрел на её умиротворенное, улыбающееся лицо и повторял: «Анна Никандровна, научите меня так жить. И научите меня так умирать. Пожалуйста.»
В этом трансовом состоянии и нашла меня Пеппи-Оля час спустя.
Не буду описывать, как мы возвращались обратно, всё обошлось хорошо.
Когда в половину пятого я подъехал к дому с палисадником и синим крыльцом, там стоял зелёный «Уазик». Из него вышла полноватая, жизнерадостная женщина лет тридцати – Глава сельского поселения и, конечно, ученица Анны Никандровны с первого по четвёртый. Бывшая учительница позвонила ей вчера и попросила к назначенному времени привезти давно составленное завещание и помочь с похоронами.
Псков 2008.



