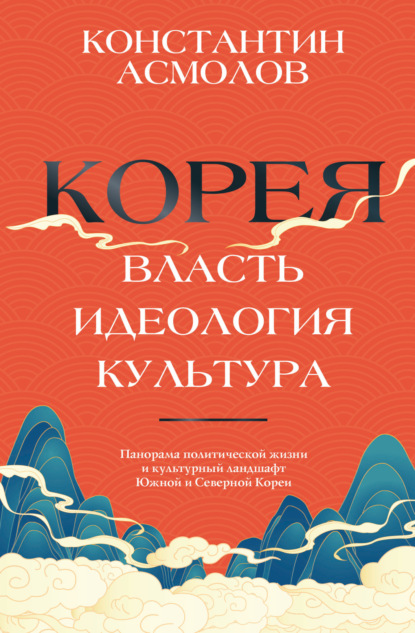
Полная версия:
Корея. Власть, идеология, культура
Эта отставка отражала противоборство двух тенденций. С одной стороны, те, чьи амбиции требовали расширения масштабов войны, невзирая на возможные последствия, с другой – те, кому ноша начала казаться тяжелой и кто был готов искать выход из ситуации, грозящей перейти в пат. На счастье, ставки оказались столь высоки, что прагматики оказались не готовы рисковать, и, хотя Гарри Трумэн был не меньшим антикоммунистом, чем Дуглас Макартур, Корейская война не вышла за рамки Корейского полуострова.
В апреле – июле 1951 г. воюющие стороны предприняли ряд попыток прорвать линию фронта и изменить ситуацию в свою пользу, однако ни одна из сторон не достигла стратегического перевеса, и военные действия приобрели позиционный характер, в ходе которого стороны обескровливали друг друга. Америка, по мнению Сталина, впустую растрачивала силы и престиж, а Северную Корею добомбили до такого состояния, что к концу войны американцы уже не находили цели для бомбардировки.
Когда стало ясно, что достичь военной победы разумной ценой невозможно и необходимы переговоры о заключении перемирия, 23 июня советский представитель в ООН призвал к прекращению огня в Корее. 27 ноября 1951 г. стороны договорились об установлении демаркационной линии на основе существующей линии фронта и о создании демилитаризованной зоны, но затем диалог зашел в тупик, в основном из-за разногласий по вопросу о репатриации военнопленных, а также позиции Ли Сын Мана, категорически выступавшего за продолжение войны.
27 июля 1953 г. представители КНДР, АКНД и войск ООН (представители Южной Кореи подписать документ отказались), подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому демаркационная линия между Северной и Южной Кореей была установлена примерно по 38-й параллели, а по обе стороны вокруг нее образована демилитаризованная зона шириной 4 км.
Дальнейший статус конфликта должен был обсуждаться на Женевском совещании в апреле 1954 г., но из-за неконструктивной позиции участников, связанной с холодной войной, мирное урегулирование корейской проблемы было сорвано.
Корейская война нанесла обеим странам колоссальный ущерб. Полные данные о потерях (особенно мирного населения) неизвестны, но погибло около 2,5 млн человек (и южан, и северян) и разрушено более 80 % инфраструктуры обоих государств.
С точки зрения достижения целей войну не выиграл никто. Объединение не было достигнуто, созданная демаркационная линия, быстро превратившаяся в «великую корейскую стену», только подчеркнула раскол полуострова, а в умах нескольких поколений, переживших войну, осталась психологическая установка на противостояние – между двумя частями одной нации выросла стена вражды и недоверия. Политическая и идеологическая конфронтация была лишь закреплена.
Кроме того, разделение страны и «синдром огненного кольца» помогли укреплению авторитарных тенденций по обе стороны 38-й параллели: «реалии времени» требовали структур управления, естественно предполагающих ограничение свободы.
КНДР и РК после Корейской войны до начала 1960-х гг.Начнем с КНДР. Окончание войны и последующее восстановление народного хозяйства сопровождалось определенной фракционной борьбой, часто замаскированной под борьбу политическую или экономическую.
Первая волна чисток прошла еще во время Корейской войны, и потому не всегда понятно, насколько репрессии в отношении тех или иных функционеров имели чисто политический мотив или были связаны с их серьезными ошибками в административно-хозяйственной деятельности. Так, если один из руководителей китайской фракции Му Чжон был разжалован скорее за военные неудачи, то разжалование и последующее самоубийство Хо Га И (А. П. Хегай, неформальный лидер советской фракции) стало следствием целого комплекса причин, включая предательство со стороны коллег по группировке.
Более или менее ясна ситуация с уничтожением Пак Хон Ёна и его сторонников, которые, во-первых, действительно рассматривались как виновники войны, а во-вторых, на фоне подготовки перемирия на самом деле готовили заговор с целью захвата власти и продолжения прежнего курса. Иное дело, что в дополнение к реальным обвинениям на них (в традиции показательных процессов того времени) навесили обвинение в шпионаже в пользу США и Японии.
В течение 1955 – начала 1956-го г. в северокорейском руководстве шли дискуссии о приоритетах экономического развития страны, отдаленно напоминающие те, что проходили в Советском Союзе во второй половине 1920-х гг. Ким Ир Сен выступал за приоритетное развитие тяжелой промышленности, полагая, что страна должна иметь свою индустриальную базу, способную сделать страну самостоятельной и готовой к отражению внешней агрессии. Его противники, преимущественно из китайской фракции, выступали за развитие легкой промышленности, считая, что в первую очередь надо поднять уровень жизни народа. Первая точка зрения побеждала, но индустриализация сопровождалась определенными перегибами, по итогам которых председатель Госплана Пак Чхан Ок, ставший главой советской фракции после смерти Хо Га И, был подвергнут критике и перешел в лагерь противников Ким Ир Сена[9].
Ким же в это время начал борьбу с «доминационизмом» и 28 декабря 1955 г. заговорил о необходимости «искоренения догматизма и формализма в идеологической работе и установлении чучхе»: «Хотя некоторые утверждают, что лучшим путем является советский или китайский, неужели мы не достигли того момента, при котором мы можем создать наш собственный путь?»
ХХ съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина стали базой для нового витка фракционной борьбы в КНДР, так как у оппозиции появилась возможность сделать то же самое, что сделал на ХХ съезде КПСС Хрущев, оттеснивший от власти своих соперников под предлогом борьбы со сталинизмом. Северокорейская оппозиция из советской и китайской фракции рассчитывала на «бархатный переворот» по образцу переворотов, происходивших в Восточной Европе, но Ким Ир Сен имел куда бóльшую поддержку, и организаторов «антипартийной выходки» стащили с трибуны и прогнали с высоких постов.
Не дожидаясь более серьезных репрессий, руководители оппозиции бежали в Китай и попросили помощи у «сюзерена», после чего в Пхеньян прилетела российско-китайская делегация во главе с А. И. Микояном и Пэн Дэхуаем, которая должна была исправить положение. Ким Ир Сену удалось избежать постановки вопроса о неполном служебном соответствии, но всех заключенных восстановили на их постах. Однако под влиянием событий 1956 г. в Венгрии, показавших Москве и Пекину, к чему может привести заигрывание с либеральными идеями, взгляд на корейскую ситуацию был пересмотрен, и Ким Ир Сен «благополучно закрутил гайки», ликвидировав или отправив в политическое небытие к началу 1960-х даже тех представителей иных фракций, которые были относительно безобидными и в большую политику не лезли.
До недавнего времени процесс уничтожения фракций мы воспринимали относительно однозначно – тиран Ким Ир Сен методично уничтожал всех вероятных конкурентов. Однако представляется, что все не так просто. Отдавая должное трагической участи репрессированных «фракционеров» и членов их семей, нам все же не следует автоматически обелять всех пострадавших, выпуская из виду то, что, оказавшись у власти, они бы репрессировали своих противников. Достаточно сложен и вопрос, насколько рекомендации Советского Союза Северной Корее соответствовали корейским реалиям, а не были проявлением волюнтаризма.
Однако ликвидация фракционной борьбы подрезала творческий и кадровый резерв северокорейского руководства. Система оказалась построенной на слишком простых решениях, к которым добавилось головокружение от успехов быстрого восстановления народного хозяйства после войны. Энтузиазм тех лет и готовность тяжело трудиться ради будущего руководство КНДР приравняло к нормативному поведению, не понимая, что подобный порыв имеет свои границы – и психологические, и временные.
Тем временем режим Ли Сын Мана постепенно стал классическим примером «банановой республики», поддерживаемой Соединенными Штатами исключительно из идеологических соображений и представлявшей собой диктатуру, куда более тоталитарную, чем на современном ему Севере.
Нельзя не сказать и о показательных процессах над политическими противниками, и о терроре, который проводили гангстерские организации, связанные с правящей партией и открыто занимавшиеся подавлением инакомыслия и сбором денег на правительственные проекты.
В 1960 г. по уровню ВВП на душу населения (80 долларов) Южная Корея находилась примерно на уровне Нигерии. В стране не было ни одного многоэтажного жилого дома, канализацией в Сеуле была обеспечена лишь четверть всех домов, а 82 % сельского населения и 39 % жителей Сеула жили без электричества.
Американская помощь составляла половину доходной части бюджета, причем ассигнования на оборону на 70 % состояли из этой помощи. Она же в период с 1953 по 1962 г. покрывала 70 % южнокорейского импорта и 80 % капиталовложений. При этом только 2 из 129 министров не были замечены в коррупции, масштаб которой был фееричен. Например, последний при Ли Сын Мане мэр Сеула брал взятки в размере от 10 до 30 % от общей суммы каждого контракта, который заключался от лица муниципалитета.
В 1959 г. руководство правящей партии дало министру внутренних дел специальное поручение: любыми способами обеспечить избрание Ли Сын Мана президентом на выборах в марте 1960 г. В декабре того же года была написана секретная инструкция, содержащая подробный план рекомендуемых мероприятий: регламентировалось даже то, сколько «заряженных» бюллетеней должно находиться в урне до начала голосования. При такой активной поддержке Ли Сын Ман не мог не «победить», но фальсификации вызвали массовые протесты, которые до поры до времени успешно подавлялись политическими гангстерами. 19 апреля 1960 г. стотысячная демонстрация направилась к президентскому дворцу, охрана которого открыла огонь, убив как минимум 115 человек и ранив около тысячи.
Вечером того же дня американский посол, посетивший Ли Сын Мана, обнаружил, что президент не только не представляет себе, что произошло, но и находится в плену странных фантазий, что против него существует заговор, в котором принимают участие коммунисты, католический епископ Сеула и Госдепартамент США. На протесты против своего правления он реагировал с искренним удивлением: «Невероятно, что патриотический корейский народ, которому я посвятил всю свою жизнь, мог вести себя так, как участники этих демонстраций».
26 апреля на фоне ежедневных массовых демонстраций на экстренном заседании Национального собрания была принята резолюция, объявившая недействительными результаты президентских выборов и требовавшая отставки Ли Сын Мана. В тот же день американский посол и командующий войсками США в Корее прошли через толпу демонстрантов, приветствовавшую их овацией, и потребовали от Ли Сын Мана уйти в отставку.
Вмешательство представителей США и готовность Америки сдать Ли Сын Мана окончательно подтолкнули события. 29 апреля 1960 г. Ли Сын Ман покинул страну на американском военном самолете и отбыл на Гавайи, где прожил еще пять лет.
Так Первую республику сменила Вторая (1960–1961), которая представляется мне чрезвычайно важным этапом корейской истории, поскольку это был первый, и, мягко говоря, неудачный опыт демократического эксперимента, потерпевший неудачу практически по всем направлениям.
Новая власть переживала определенный кризис легитимности, так как не захватила власть своими силами, а «получила ее из рук студентов». Выборы 29 декабря 1960 г. ничем не отличались от выборов времен Ли Сын Мана по уровню насилия, взяточничества, подкупа избирателей и жульничества при подсчете голосов, а целый ряд законов, особенно направленных на наказание «совершивших преступления против демократии», был принят с нарушением процессуальных норм и позволял судить преступления, совершенные до его принятия.
Попытка властей реорганизовать систему командными методами привела ее в состояние коллапса, усиленного апатией, которая охватила госслужащих на фоне новой волны чисток, в ходе которых представители разных фракций сводили счеты друг с другом. В результате значительная часть чиновников фактически саботировала действия правительства или, боясь быть осужденными за свои действия, предпочитала бездействие. Беда не пришла одна: экономический спад конца 1950-х привел к росту числа безработных до 2,4 млн человек, и к концу 1960 г. 80 % предприятий столичного региона прекратили работу.
Кроме того, новая власть испытывала дефицит управленческих кадров, не запятнанных сотрудничеством со старым режимом. Вследствие этого критерием для занятия должности нередко становились не профессионализм кандидата, а его личные связи или «анкета», говорящая о его оппозиционном прошлом. Такие новые управленцы уступали чиновникам старого образца, но отличались не меньшим аппетитом к власти, по традиции видя в ней кормушку.
При этом попытка вернуть необходимые для противодействия начинающемуся хаосу силы и средства рассматривалась демократами как скрытая подготовка новой диктатуры, а слишком жесткие методы работы – как возврат к временам тоталитаризма.
Разгром старых кадров и общее ослабление репрессивного аппарата подстегнули деятельность криминалитета: «нейтрализованные» органы оказались бессильны пресечь волну организованной преступности и рост коррупции и незаконных доходов крупных компаний, руководство части которых просто отказывалось платить налоги.
«Распустились» не только гангстеры, но и студенты, которые давили на правительство своими массовыми выступлениями и даже несколько раз врывались в здание Национального собрания во время ее заседаний, занимая трибуну спикера, укоряя депутатов в отсутствии революционного духа и полагая, что правительство в своих действиях подотчетно им. Телефонное право фактически сменилось «мегафонным».
Когда ситуация начала выходить из-под контроля, правительство стало хвататься за дубинку чрезвычайных законов. Так называемый Временный чрезвычайный антикоммунистический закон мало отличался от антикоммунистических законов времен Ли Сын Мана, но ослабленный репрессивный аппарат уже не мог адекватно контролировать волну протестов левых, которая поднялась в ответ на эту попытку правительства закрутить гайки, – студенты открыто называли революцию 1960 г. «украденной».
Правительство оказалось между двух огней. Его традиционная ориентация на США и объективная зависимость от Америки не устраивали студентов и левых, проводивших стотысячные митинги, а охватившие общество тенденции сближения с Севером и неспособность правительства их пресечь не устраивали его заокеанских покровителей.
Можно сказать, что страна оказалась не готовой к демократическому эксперименту, но, прежде чем события приняли критический оборот, маятник качнулся в обратную сторону. Попытка в кратчайшие сроки привести Корею к европейским стандартам закончилась захватом власти военной хунтой во главе с Пак Чон Хи.
Режим Пак Чон ХиОбъявив своей целью построение демократии, Пак сразу же нанес удар как по левому движению, так и по коррупционерам и организованной преступности. Были казнены те, кто организовывал выборы в мае 1960 г., конфисковано нелегально обретенное имущество политиканов и бюрократов, в госаппарате была проведена значительная чистка.
В 1962 г. была принята новая конституция, по которой президент наделялся самыми широкими полномочиями, избирался прямым голосованием сроком на четыре года, но не более чем на два срока подряд.
30 августа 1963 г. Пак ушел с военной службы и выставил свою кандидатуру на пост президента от созданной хунтой Демократической Республиканской партии (ДРП). Предвыборные дебаты обеспечили Паку дополнительный успех, так как политики старой школы не имели позитивной социально-экономической программы и фактически призывали к возвращению к временам Ли Сын Мана.
В декабре 1963 г. Пак пришел к власти легальным путем, победив своего оппонента с незначительным отрывом (46,6 % голосов против 45,1 %). В 1967 г. Пак одержал более уверенную победу (51,5 % голосов против 40,9 %).
Главным внешнеполитическим достижением режима было изменение отношений с Японией, которая из врага превратилась в партнера. Установив дипломатические отношения со Страной восходящего солнца в 1965 г., Пак сумел не только начать лавировать между США и Японией, но и обеспечил приток японских инвестиций размером в 800 млн долларов, а в 1971 г. инвестиции Японии в Корее составили 54 % от общего объема иностранных инвестиций – больше, чем у любой другой страны (США – 26 %).
Остановимся более подробно на корейско-американских отношениях. Имея в своих руках рычаги экономической помощи, угрозы прекратить поток которой были основным средством давления, США рассчитывали, что Южная Корея будет послушно выполнять их указания, в то время как Пак активно пытался обеспечить себе свободу маневра. Так, одновременно с установлением дипотношений с Японией, Сеул принял участие во вьетнамской войне и направил в Южный Вьетнам две дивизии корейских войск, заслужив этим не только благодарность американцев, но и их заказы на военную амуницию и военное строительство. За это Пак добивался от США компенсационных кредитов и модернизации южнокорейской армии. В 1966 г. разнообразные доходы Кореи от этой войны составили 40 % заработанной страной за рубежом иностранной валюты, а всего в период войны США поставили Южной Корее в виде экономической и военной помощи 12,6 млрд долларов.
Возникли и первые попытки начать диалог с Севером. Появилось министерство объединения, отделенное от министерства иностранных дел и занимающееся специально всем комплексом проблем, связанных с отношениями между Севером и Югом.
Еще в августе 1961 г. южнокорейская сторона передала Северу письмо, в котором предлагала провести обмен мнениями по вопросу объединения. Но тайные переговоры по неофициальным каналам были прекращены, ибо принципиального согласия ни по одному вопросу достигнуто не было, сохранять их в тайне от США становилось все труднее, а антикоммунистическая риторика режима Пака отпугивала северян.
После этого наступил период конфронтации. Инциденты и перестрелки случались несколько раз в год, а 21 января 1968 г. группа из 32 северокорейских спецназовцев проникла в Сеул для того, чтобы убить президента РК.
В 1971 г., несмотря на яростные протесты оппозиции (пришлось вводить чрезвычайное положение), Пак выиграл выборы в третий раз (53,2 % голосов против 45,3 %). Его противником в них был Ким Дэ Чжун, относительно молодой политик, имевший репутацию последовательного диссидента.
17 октября 1972 г. Пак Чон Хи совершил конституционный переворот, вошедший в историю под названием «Юсин», или «Реформа обновления государства». Введение Юсин началось с военного положения, роспуска Национального собрания и ареста большинства лидеров оппозиции. После этого Пак предложил ввести в Конституцию поправки, по которым ему была гарантирована фактически пожизненная власть.
Четвертая республика (1972–1980) однозначно оценивается и в корейской, и в советской/российской литературе как период крайне жесткого тоталитарного режима и наиболее диктаторский в современной корейской истории. Так, введенное в мае 1975 г. Чрезвычайное постановление № 9 рассматривало как преступление любую критику президента или данного постановления. Ким Дэ Чжун был похищен в Токио и спасен от смерти только благодаря быстрым и эффективным действиям США.
Начиная с 1970 г. в отношениях между Сеулом и Вашингтоном стало накапливаться напряжение, связанное с изменениями в американской внешней политике, в первую очередь – со стремлением администрации Никсона наладить дипломатические отношения между США и КНР.
Кроме того, в условиях разрядки поддержка откровенно диктаторского режима была политически невыгодной, и конгресс начал давить на администрацию президента, требуя, чтобы помощь режиму Пака оказывалась в обмен на подвижки последнего в сторону демократии, прекращения репрессий и т. д.
Попытки Сеула противодействовать на американской территории вылились в так называемый Кореягейт 1974–1975 гг., связанный с нелегальной деятельностью ЦРУ Южной Кореи на территории США. Помимо этого, Корея начала искать способы стать независимой и с военной точки зрения. Пак принял решение о необходимости создания ядерного оружия как средства сдерживания, однако американцы предпринимали очень жесткие меры для предотвращения южнокорейской ядерной программы. РК заставили подписать Договор о нераспространении ядерного оружия, но в 1978 г. начала работать первая южнокорейская АЭС, а в 1979 г. Пак отдал распоряжение начать разработку атомного оружия. Однако в том же году Пак был убит, и Вашингтон и Сеул достигли договоренности, что в ответ на отказ от ядерной программы США разместит на территории РК тактическое ядерное оружие, которое вывезли из страны только в 1991 г.
В то же самое время происходит вторая попытка наладить диалог с КНДР. 20 сентября 1971 г. в Пханмунджоме состоялась первая встреча представителей Красного Креста Севера и Юга, а 2 мая 1972 г. директор ЦРУ Южной Кореи Ли Ху Рак тайно прибыл в Пхеньян и начал переговоры.
В ответ 29 мая в Сеул прибыл тоже тайно вице-премьер КНДР Пак Сон Чхоль. По итогам переговоров, которые продолжались в течение 1973 г., было принято совместное заявление: объединение должно быть достигнуто независимыми усилиями без внешнего вмешательства; мирным путем, без применения силы по отношению друг к другу; на первом месте должно стоять национальное единство, а на втором – различие в идеях и системах. 30 ноября 1972 г. было подписано «Соглашение о структуре и функционировании комиссии по урегулированию между Югом и Севером», а между странами проведена прямая телефонная линия. В июне 1973 г. Пак даже позволил себе заявить о том, что он не против того, чтобы РК и КНДР одновременно стали членами ООН.
Понятно, что это заявление было скорее «протоколом о намерениях», и сдаваться на условиях противника никто не собирался. Даже Пак воспринимал эти переговоры как способ лучше чувствовать настроения КНДР. Постепенно напряжение на переговорах начало расти, а их конструктивность – падать.
15 августа 1974 г. произошло покушение на жизнь Пак Чон Хи, окончательно перечеркнувшее переговорный процесс. Пак остался жив, но его жена трагически погибла. Убийца был японским корейцем, связанным с просеверокорейскими организациями в Японии, однако не следует делать однозначный вывод, что покушение было именно северокорейской инициативой.
1979 г. оказался для Кореи сложным. После длительного периода роста до Южной Кореи докатились инфляция и рецессия, связанные с резким повышением цен на нефть после исламской революции в Иране, а лишение депутатского мандата руководителя Новой Демократической партии Ким Ён Сама увеличило напряженность в корейско-американских отношениях. К этому времени Пак утратил способность конструктивно воспринимать критику, объявив любое осуждение его и его режима уголовным преступлением, и все чаще и чаще склонялся к применению жестких методов подавления оппозиции, что и стало причиной его убийства, совершенного 26 октября 1979 г. его собственным начальником ЦРУ Ким Чжэ Кю.
«Чудо на реке Ханган» и его истокиГлавной заслугой режима Пак Чон Хи всегда называют то, что из страны «просяной каши и соломенных крыш», абсолютно зависимой экономически от Соединенных Штатов, Южная Корея превратилась в промышленно развитое государство. Экономический рост был для Пака не только источником процветания страны, но и способом повысить легитимность своего режима и укрепить национальную безопасность. Тремя китами, на которых стояла экономическая программа Пака, были развитие тяжелой промышленности как форсированная индустриализация за счет сельского хозяйства, экспортно-ориентированная экономика и ее государственное регулирование.
Сначала Пак хотел сделать Корею страной-фабрикой, которая могла бы скупать сырье за рубежом, перерабатывать его и экспортировать полученную готовую продукцию: на зарубежные кредиты строились фабрики, работавшие на импортируемом сырье и по иностранной же технологии. В 1965 г. 40 % всего корейского экспорта составляли одежда и текстильные изделия. Продукция шла на экспорт, а вырученные деньги – на закупку нового сырья и новых технологий, а также – на развитие инфраструктуры и образования, позволяющих перейти к новому этапу индустриализации. При этом внутри страны существовала политика жесткого протекционизма в области импорта.
К началу 1970-х гг. накопленные опыт и капитал дали возможность перейти к капиталоемким отраслям: металлургии, судостроению, химической промышленности. В Корее появляются огромные металлургические комбинаты (любопытно, что поначалу их строительство сочли авантюрой, и Всемирный банк отказался инвестировать проект), которые вскоре превращают страну в одного из крупнейших в мире производителей стали, а также верфи, которые уже к 1980 г. по суммарной грузоподъемности производили около трети всего мирового тоннажа новых кораблей. За металлургией и судостроением последовали более техноемкие отрасли – автомобильная промышленность, ее развертывание началось после 1976 г., и электроника, периодом развития которой стали уже 1980-е гг.



