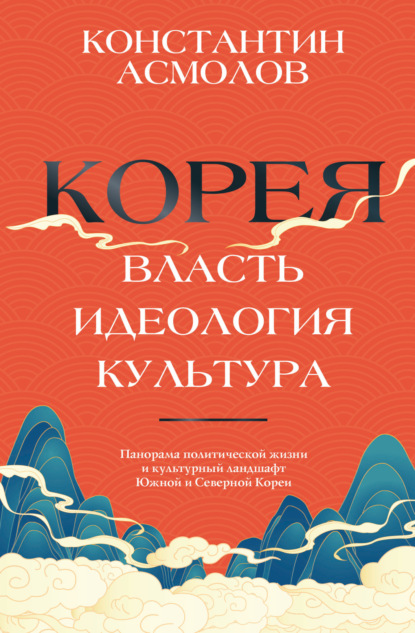
Полная версия:
Корея. Власть, идеология, культура
Японское колониальное наследие до сих пор является предметом интересных споров. Во-первых, это вопрос, до какой степени экономическая политика Японии привела к индустриализации страны, значительная часть объектов промышленности и инфраструктуры которой была создана именно в колониальный период. Во-вторых, это вопрос о том, насколько авторитарная составляющая современной корейской политической культуры базируется не на традиционном субстрате, который колонизаторы только пестовали, а на японских инновациях.
Связано это с особенностями японской политики по отношению к корейской нации. Начиная с 1931 г. (и особенно после начала Второй мировой) корейцев стали пытаться превращать в «японцев второго сорта», причем акцент был сделан не на «второй сорт», а на «японцев». Форсированная ассимиляция под лозунгом «Япония и Корея в одном теле» справедливо воспринимается многими как «этноцид», целью которого было полное уничтожение корейской национальной идентичности и растворение корейского этноса в японском: корейцев принуждали говорить на японском языке и менять фамилии и имена, школьников приобщали к синтоизму[4].
Подобная практика дала, однако, свои плоды. За 30 лет японского господства произошла смена поколений, и те, кому в 1945 г. уже исполнилось 30–40 лет, фактически выросли уже при Новом Порядке. Важно, что речь идет не столько о прослойке коллаборационистов, сколько о целом поколении корейцев, учившихся в японских школах по японским правилам.
Ответом корейского народа на политику Японии было Первомартовское движение 1919 г., набравшее мощь под влиянием Октябрьской революции в России и итогов Первой мировой, породивших идею права наций на самоопределение. 1 марта 1919 г. в Сеуле лидеры движения провозгласили Декларацию независимости Кореи, но массовые демонстрации были жестоко подавлены.
Тысячи демонстрантов были арестованы, сотни убиты, но напуганные событиями власти провозгласили широковещательную программу реформ, начало так называемой эры культурного управления, введение «системы самоуправления» и пр. Однако реформы сводились к созданию ограниченных совещательных органов при японских административных органах власти, состоявших из прояпонских элементов. Единственной областью, в которой колониальные власти пошли на некоторые уступки национальной буржуазии, была сфера предпринимательской деятельности. За 1919–1928 гг. корейский акционерный капитал удвоился (с 23 млн до 48 млн йен).
Естественно, что это сформировало довольно специфическую прослойку корейской буржуазии, – чтобы быть богатыми и успешными, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами и закономерно воспринимались всеми остальными как так называемые чхинильпха (букв. «прояпонская фракция»), – коллаборационисты и негодяи.
Что же до оппозиции колонизаторам, то после 1919 г. она стала действовать главным образом из-за рубежа, четко разделившись на коммунистов и националистов. Последние создали в Шанхае Временное правительство Республики Корея, каковое обозначили теми же словами «Тэхан Мингук», которыми сейчас называют Республику Корея (японцы продолжали использовать для обозначения корейского генерал-губернаторства название «Чосон»). Первый лидер – Ли Сын Ман. В 1905 г. он был послан в Америку с тайной миссией склонить Вашингтон на сторону Кореи, но не преуспел и остался в США, получил высшее образование и стал первым корейцем с американским дипломом доктора политологии, обучаясь международной политике у экс-президента США Вудро Вильсона. Впрочем, его лишили власти после того, как он попытался обратиться к американским властям с предложением превратить Корею в свою подмандатную территорию. В годы Второй мировой войны Временное правительство Кореи переместилось в Чунцин, где сохраняло единство при премьере Ким Гу, который был националистом, отчасти находившимся под влиянием идей Сунь Ятсена и пользовавшимся поддержкой гоминьдановского Китая. Увы, никто из других великих держав Временное правительство не поддерживал. В Советском Союзе их считали буржуазными националистами, а для Соединенных Штатов Ким Гу был слишком независим и слишком традиционен.
Ли Сын Ман же все это время продолжал жить в Америке и позиционировать себя как лидера корейского националистического движения. И хотя к моменту окончания Второй мировой войны Ли уже был весьма пожилым человеком, в Госдепартаменте и среди военных у него было много влиятельных друзей.
Коммунистическое движение также было расколото и дезорганизовано. Сначала это был раскол между так называемыми Шанхайской и Иркутской фракциями [левые националисты, исповедовавшие коммунистическую идеологию против членов ВКП(б) корейской национальности, желавших распространить свое влияние на всех корейских коммунистов]. Потом – борьба функционеров, подвизавшихся в аппарате Коминтерна и занятых тем, что на современном жаргоне называется «освоением грантов». А затем свара внутри собственной компартии, закончившаяся тем, что в 1928 г. Компартию Кореи (единственную в своем роде) даже не выгнали из Коминтерна, а официально ликвидировали. Точнее, Коминтерн указал, что ни одна из фракций, претендующих на то, чтобы представлять корейских коммунистов, которые больше борются друг с другом, чем с японцами и даже не гнушаются выдавать им «идейных противников», не может и не имеет морального права называться партией в марксистко-ленинском смысле этого слова. Закончилось все плохо – к 1937 г. все так старательно рыли друг другу яму, что на фоне поисков врагов народа у них получился общий расстрельный ров.
Реальный опыт борьбы с японскими оккупантами был в основном у корейских коммунистов, локализовавшихся в Северном Китае и Маньчжурии. Вместе со своими китайскими товарищами они организовывали в этом регионе, где проживало более 1 млн корейцев, партизанские отряды, более-менее успешно противостоявшие японцам. Одним из молодых командиров таких отрядов был человек по имени Ким Сон Чжу, взявший в середине 30-х гг. псевдоним Ким Ир Сен.
Конечно, в последующее время вокруг партизанского прошлого Кима было сломано немало копий, так как южнокорейская пропаганда активно пыталась дискредитировать его заслуги. Однако Ким действительно попортил крови японцам больше, чем иные командиры, а в 1937 г. даже совершил рейд на территорию собственно Кореи, заработав репутацию национального героя.
Впрочем, к началу 40-х гг. Маньчжурия тоже была очищена от партизан. Оставшиеся в живых перешли границу СССР и были интернированы. Затем из них была сформирована так называемая 88-я бригада, в которой Ким Ир Сен был командиром батальона.
Освобождение Кореи и ее раздел. Образование КНДР и РКВопрос о положении Кореи после окончания Второй мировой войны впервые был поднят в 1943 г., когда рассматривалось, какая судьба ждет территории, бывшие до войны колониями. В итоге приняли формулировку – «Корея станет свободной и независимой в должное время».
9 августа 1945 г. Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке, и уже 15 августа японский оккупационный корпус в Корее прекратил сопротивление. Так сложилась крайне интересная ситуация, когда большая часть корейской территории, в том числе вся южная часть Кореи, освободилась «самостоятельно», однако ни одно из вооруженных формирований какого бы то ни было из корейских правительств или партизан не принимало в этом участия. Поэтому когда корейские историки пишут, что они освободились от японцев сами, то под этим «сами» надо понимать не столько «благодаря собственным действиям», сколько «без чьей-либо помощи».
Американцы не ожидали, что все закончится настолько быстро, и им нужно было срочно придумать компромиссный вариант раздела региона. У Чарльза Боунстила и Дина Раска (двух подполковников армии США, на плечи которых свалилось решение этой задачи) было полчаса времени на размышление и карта Кореи в качестве единственного источника информации об этой стране. Решение было по-американски простым: Китай оказывался в советской сфере влияния, Япония – в американской (предложение советской стороны о высадке на Хоккайдо было отвергнуто), а территорию Кореи полагалось поделить по 38-й параллели на две оккупационные зоны, что выглядит как разделение территории пополам. Однако в действительности на американской половине остаются столица, две трети населения, бóльшая часть аграрных и значительная часть индустриальных ресурсов. Сыграло свою роль и то, что японские войска на севере страны подчинялись командованию Квантунской армии (зона влияния СССР), а на юге – командованию в метрополии (зона влияния США).
Если северная часть полуострова была занята советскими войсками сразу, то на Юг американцы пришли только в сентябре 1945 г. Однако с формальной точки зрения великие державы пришли не на пустое место. Во-первых, в Китае продолжало существовать Временное правительство в изгнании. Во-вторых, чтобы обеспечить эвакуацию японского населения и избежать погромов, бывшие японские власти полуострова создали «переходное» правительство, которое, воспользовавшись ситуацией, возглавил один из лидеров корейских левых националистов Ё Ун Хён. Созданная им Корейская Народная Республика (КНР) успела провести целый ряд демократических мероприятий, а страна покрылась сетью подчиняющихся ее правительству Народных комитетов. Однако командование американских войск имело четкие инструкции не признавать никакие самопровозглашенные корейские правительства. В конце 1945 г. центральный аппарат КНР разогнали, а с Народными комитетами на местах боролись до 1950 г., при том что в Северной Корее Народные комитеты были признаны советской властью и в течение августа-декабря 1945 г. инкорпорированы в созданные структуры власти.
27 декабря 1945 г. состоялось Московское совещание министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза, призванное окончательно определить статус страны. Во время него американцы предлагали решить вопрос по японскому образцу, но СССР и Англия подтвердили верность идее Рузвельта о международной опеке, после которой будут проведены выборы.
Изначально никто не собирался делить страну на постоянные зоны оккупации, но каждая из сторон втайне рассчитывала, что сумеет повлиять на ситуацию внутри страны так, что корейский народ выберет «нужный» путь развития. Американцы полагались на поддержку воспитанной на европейских ценностях либеральной интеллигенции, Советский Союз собирался действовать на волне естественного после освобождения страны уклона влево и настроения масс.
Однако политика СССР и США в Корее делится на два этапа. Пока стороны видели страну единой, они делали ставку на центристов и умеренных националистов. Москва «работала» с Чо Ман Сиком, одним из лидеров левых националистов, которого называли «корейским Ганди». Вашингтон не имел единого кандидата на роль лидера страны: Госдепартамент склонялся к кандидатуре Ким Гю Сика (одного из умеренно правых политиков), военные, особенно генерал Макартур, поддерживали Ли Сын Мана (которому было уже 70 лет). К моменту возвращения в страну он говорил на безукоризненном английском и ломаном корейском, мало знал о внутреннем положении Кореи, но абсолютно серьезно считал себя «новым Моисеем корейского народа».
Но примерно с начала 1946 г. неприятие корейцами опеки становится очевидным (независимости хотели сейчас), а тенденция совместных конструктивных действий двух сверхдержав быстро сходит на нет на фоне холодной войны. В новых условиях и СССР, и США должны были поддержать наиболее лояльного кандидата на пост главы государства, который гарантированно обеспечит «правильную» политическую линию.
«Любимцем» США закономерно стал Ли Сын Ман. По сравнению с остальными претендентами на власть он отличался гораздо большим эгоизмом и личной активностью. Беспринципный политик не испытывал проблем при подготовке и проведении в жизнь каких-либо решений, а его талант манипулятора широко отмечается всеми историками. Он имел многолетний стаж антияпонской борьбы, и сравниться с ним в этом смысле мог только Ким Гу, но, когда тот появился в Корее, место номер один было уже занято. К тому же он еще раньше своих американских хозяев начал озвучивать идею создания на территории Кореи сепаратного государства с собой во главе. Именно из-за этого, когда обстановка изменилась, а Москва и Вашингтон начали поддерживать наиболее лояльных им политических лидеров, Ли Сын Ман быстро пошел в гору.
На Севере тем временем началось возвышение Ким Ир Сена: выбор Москвы пал на него потому, что он был молод и имел реальные заслуги (в отличие от иных деятелей коммунистического движения, которые, честно говоря, больше занимались подсиживанием друг друга или были далеки от настоящей политической борьбы). При этом не следует думать, что Ким Ир Сен уже тогда был таким же самодержавным правителем, каким он стал позднее. Будучи одним из наиболее молодых политических лидеров, по сравнению с главами иных фракций, он скорее напоминал Сталина конца 1920-х годов.
Традиционно в руководстве КНДР того времени выделяют четыре фракции: Ким Ир Сен и его соратники по партизанской борьбе; «местные» коммунисты, действовавшие внутри Кореи; китайская фракция из числа тех, кто действовал под крылом Мао Цзэдуна; советские корейцы, присланные для «усиления». Однако эта классификация довольно условна: формальный лидер «местной» фракции Пак Хон Ён провел в Советском Союзе почти столько же времени, сколько Ким Ир Сен, только в более раннее время, а один из руководителей «советской» фракции Пак Чхан Ок под своим китайским именем Пу Чжэньюй служил в СССР в одной бригаде с Ким Ир Сеном.
Политика СССР и США в Корее и раскол страныЕсли СССР с самого начала ставил перед собой задачу построения сильного в политическом и военном отношении, лояльного Москве государства, США не имели четкого плана обустройства Кореи и не определились с тем, какую политику они будут там проводить. Из-за этого строительство государства на Севере и сопутствующие ему реформы проходили более организованно и интенсивно. Несмотря на дежурные фразы о красном терроре, даже проамериканские пропагандисты не приводят каких-либо серьезных примеров сопротивления, сравнимых с левым сопротивлением на Юге[5]. Основным способом выражения протеста было бегство на Юг.
Если американцы пытались переломить левый уклон, то на Севере его использовали: структура власти была похожей на советскую, однако внешне выглядела естественным продолжением народных комитетов. Большую роль в укреплении власти коммунистов сыграли и демократические реформы, серия которых также прибавила правительству Ким Ир Сена легитимности и укрепила его популярность.
Если советская администрация старалась подавлять фракционную борьбу, американцы смотрели на нее сквозь пальцы, а то и поощряли ее в своих собственных интересах, в результате чего террор и политические убийства стали нормой. Так погибли и Ким Гу, и Ё Ун Хён.
По-разному был решен и кадровый кризис, масштаб которого очень сложно себе представить. Так как японцы специально не занимались подготовкой корейских специалистов выше определенного уровня, после того как они покинули Корею, страна начала испытывать сильнейший кадровый дефицит чиновников и инженеров.
На Севере роль кадрового резерва сыграли специалисты из числа советских корейцев, имевшие опыт административно-хозяйственной деятельности. Но на Юге такого ресурса не было, и американцы были вынуждены принять решение, которое показалось им единственно разумным: оставить на своих местах тех, кто есть. Из-за этого в Южной Корее не было ни «денацификации», ни аналога тех мероприятий, которые проводились после войны на территории собственно Японии.
Однако освобождение от японского ига закономерно рассматривалось массами не только как избавление от японцев, но и как низвержение всех их приспешников, которые ранее «пили народную кровь». Это вызывало очень сильное социальное напряжение и подталкивало людей в объятия левых, чьи выступления были направлены прежде всего на окончательную ликвидацию японского колониального наследия.
Масштаб сопротивления режиму Ли Сын Мана в 1946–49 гг. был вполне сравним с антияпонскими выступлениями сорокалетней давности. Но, хотя южнокорейское левое движение во многом действовало независимо от Пхеньяна (и тем более от Москвы), американцами оно воспринималось как организованное коммунистами и являющееся частью советского плана по захвату всей Кореи. Это вызывало нежелание разбираться в причинах волнений и неадекватное их подавление – порочный круг создавал ситуацию вялотекущей гражданской войны.
К началу 1947 г., на фоне холодной войны и окончательного краха структур, созданных Московским совещанием, США и СССР начали самостоятельно формировать органы власти будущей Кореи.
Советский Союз представлял передачу власти коммунистам как развитие традиции Народных комитетов, на съезде которых было избрано Народное собрание в качестве высшего органа государственной власти. Выборы в высший законодательный орган в августе 1948 г. состоялись как на Севере (прямые), так и на Юге (нелегальные и косвенные).
Соединенные Штаты поступили по-иному: используя свое влияние, они передали корейский вопрос на рассмотрение в ООН[6]. 14 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение сформировать так называемую Временную комиссию ООН по Корее (UNTCOK), которая приняла решение о проведении на территории полуострова всеобщих демократических выборов.
Москва и Пхеньян отказались принять UNTCOK как орган, заслуживающий доверия, после чего Ли Сын Ман предложил провести выборы «там, где это возможно», и 10 мая 1948 г. на Юге с большим числом нарушений прошли всеобщие выборы, организованные при активном участии полиции и лояльных Ли Сын Ману полугангстерских формирований.
И Север, и Юг считают «свои» выборы более легитимными, но с формальной точки зрения позиция КНДР вернее. Во-первых, выборы в Южной Корее проходили под наблюдением ООН, но не под ее контролем. Во-вторых, хотя РК объявила о том, что в ее юрисдикции находится весь полуостров, на территории КНДР выборы не проводились вообще, в то время как КНДР выборы на Юге провела, пусть и нелегальные, и все высшие органы власти были построены на равном представительстве северян и южан. В-третьих, хотя постановление ГА ООН признало законным только РК, решения подобного рода не входят в компетенцию ООН и не предусмотрены ее Уставом. Признавать или не признавать сформированное где-то правительство – прерогатива властей каждого конкретного государства.
15 августа 1948 г. на южной половине полуострова было провозглашено сепаратное государство Республика Корея (РК), первым президентом которой стал Ли Сын Ман, а 9 сентября 1948 г. на севере была провозглашена КНДР во главе с премьер-министром Ким Ир Сеном. Название КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) было предложено представителями советской администрации. Сами корейцы хотели назвать страну Корейской Народной Республикой по аналогии с проектом Ё Ун Хёна.
Кстати, герб и флаг КНДР изначально были аналогичны государственным символам РК, и только после того, как традиционные эмблемы уже оказались использованы «той стороной», были разработаны новый дизайн герба и флага.
Так Корея оказалась разделенной, причем оба государства формально распространяли свою юрисдикцию на весь полуостров, считая другую его половину незаконно управляемой марионетками идеологического врага. Конституция КНДР 1948 г. объявляла столицей страны Сеул, находящийся на временно оккупированной территории.
Корейская война 1950–53 гг.Размах левого движения и напряженность на границе привели к тому, что начиная с 1948 г. в Корее, по сути, шла вялотекущая гражданская война, признаками которой были и партизанское движение в РК (только восстание на острове Чечжудо унесло около 30 тыс. человек), и непрекращающиеся стычки и инциденты вдоль границы (кстати, чаще инициированные Югом), общий масштаб которых более напоминал окопную войну. При этом каждое из корейских государств формально осуществляло свою юрисдикцию на территории всего полуострова и страстно жаждало «воссоединения» любой ценой: страну разделили по живому, и ситуация казалась абсолютно неестественной.
Обе стороны активно строили планы силового объединения страны, но до конца 1949 г. и Москва, и Вашингтон стремились удерживать Пхеньян и Сеул от решительных действий. Однако в начале 1950 г. с учетом кажущейся нестабильности южнокорейского режима и представления о том, что Южная Корея не входит в американский «периметр обороны», руководство КНДР, обладавшей более сильным военным потенциалом, добилось от Москвы и Пекина одобрения курса на «объединительную войну».
Решающим аргументом, по мнению автора, было то, что Кремль сумели убедить в наличии на Юге революционной ситуации, при которой вторжение туда превратится в блицкриг: Пак Хон Ён, глава «местной» фракции и министр иностранных дел КНДР, заявлял, что по его сигналу в Южной Корее 200 тыс. коммунистов начнут восстание, и режим Ли Сын Мана падет. Что же до возможного вмешательства Соединенных Штатов, то, исходя из реалий тогдашней внешнеполитической обстановки[7], оно было сочтено маловероятным.
Так было дано добро на войну, но ход этой войны превратил ее в трагедию ошибок и амбиций, когда большинство ключевых решений, включая одобрение самого начала вторжения, было принято на основе неверных предпосылок, продиктованных непониманием ситуации, незнанием эндемики или личными страстями тех, кто выдвигал то или иное предложение. Она же является примером того, как часто принявшие решение оказываются заложниками дальнейших событий, не имея возможности отмотать время назад, и как часто в большой политике именно «хвост виляет собакой».
25 июня 1950 г. в 4 часа утра северокорейские войска перешли 38-ю параллель и 28 июня заняли Сеул. Армия РК действительно рассыпалась, но восстания, на которое был основной расчет, не случилось. Более того, США вмешались в войну быстрее и активнее, чем это предполагалось: сеульский режим оказался «чемоданом без ручки», который очень тяжело нести, но нельзя выбросить. Этому способствовали и представление Трумэна о роли ООН и необходимости сдерживания коммунизма, и внутриполитическая ситуация в самой Америке – на фоне начинающегося маккартизма и после «потери Китая» руководство должно было ясно продемонстрировать общественному мнению свою твердость.
Сразу после начала войны США инициировали созыв Совета Безопасности ООН, который дал мандат на создание сил ООН для «изгнания агрессора» и поручил руководство «полицейской акцией» Соединенным Штатам во главе с генералом Д. Макартуром. СССР, чей представитель бойкотировал заседания Совета Безопасности из-за участия в нем представителя Тайваня, не имел возможности наложить вето.
В конце июля 1950 г. американцы и южнокорейцы отступили в юго-восточный угол Корейского полуострова, организовав оборону так называемого Пусанского периметра. В результате «Советский блок» был вынужден продолжать войну в заведомо невыгодной для себя ситуации, понимая, что долгую войну им не выиграть хотя бы из-за соотношения экономической мощи.
Чтобы добиться перелома в ходе военных действий, командующий «войсками ООН» Макартур разработал план десантной операции в глубоком тылу северокорейских войск. Рано утром 15 сентября американцы высадились под Инчхоном и после ожесточенных боев 28 сентября овладели Сеулом. К началу октября северяне оставили территорию Южной Кореи. Маятник качнулся в другую сторону, и теперь уже командование ООН было настолько в плену амбиций и желания красивой победы, которая даст важный пропагандистский эффект, что утратило чувство реальности.
1 октября войска ООН пересекли 38-ю параллель, а к 24 октября заняли большую часть северокорейской территории, выйдя к пограничной с Китаем реке Амноккан. В этой ситуации китайское руководство оказалось перед трудным выбором, поскольку страна была в руинах и нуждалась в реконструкции. С другой стороны, были общеизвестны американские планы превратить Корейскую войну в войну с коммунизмом вообще, и в итоге Пекин направил в Корею войска, которые формально именовались «Армией китайских народных добровольцев (АКНД)». Решение Мао было продиктовано той же логикой, согласно которой США оказались вынуждены поддержать Ли Сын Мана, защищая не столько его, сколько свои стратегические интересы, нарушение которых казалось фатальным для страны[8].
19 октября 1950 г. части АКНД перешли китайско-корейскую границу и, пользуясь эффектом неожиданности, 25 октября нанесли контрудар по войскам ООН. К концу года северяне восстановили контроль над всей территорией КНДР. 31 декабря китайцы и северокорейцы начали наступление по всему фронту южнее 38-й параллели, и 3 января 1951 вновь заняли Сеул.
С конца января 1951 г. американское командование предприняло серию операций с целью вернуть Сеул, что удалось сделать только в конце апреля. Еще до завершения контрнаступления, 11 апреля из-за разногласий с Трумэном (в том числе относительно идей превратить войну в мировую и использовать ядерное оружие), Д. Макартур был смещен с поста командующего и заменен М. Риджуэем.



